О новой маске (Автобио-реконструктивной).
Автор: Н. Евреинов
 В истории театра, насколько нам известно, все многообразие «масок» (в расширенном смысле этого слова) может быть сведено к двум родам:
В истории театра, насколько нам известно, все многообразие «масок» (в расширенном смысле этого слова) может быть сведено к двум родам:
1) к маске психологической, обязывающей к преображению самого стержня лицедейской души, и 2) к маске (я бы сказал) прагматической, при которой лицедей, в кардинальной сущности своего «я», остается адэкватным себе, но мыслит, волит и чувствует себя в иной действительности, так как обязуется стать (сценически) субъектом отличного от его собственного «дела» (действа, свершения — прагмы).
Соответственно этому известны: 1) актеры, которым любо и привычно изображать на сцене «других», т. е. лиц, противоположных им по характеру, и 2) актеры, которым скорей по душе (или у которых это хорошо выходит) являть на сцене себя самих.
Примером первой категории актеров можно назвать В. Н. Давыдова,. Ф. И. Шаляпина, Е. М. Грановскую; примером второй категории—покой¬ного К. А. Варламова, Макса Линден, В. А. Юреневу.
Если бы у актеров, творчески привычно повторяющих на сцене самих себя, спросили, могли-б они явить на подмостках театра себя самих в повторении действительно случившегося с ними,—я думаю, подавляющее ‘большинство ответило бы, что, мол, пожалуй «могли бы», хоть это и не заманчиво, но такие «казусы» чужды их сценическому опыту, т. е» попросту говоря: театр до сих пор не знал подобных примеров.

И они были бы правы: маска автобио-реконструктивная не имела до сих пор места в истории театра, где упрочились, как бы вытесняя все остальные, лишь маска психологическая и маска прагматическая.
А между тем этот третий род маски (маски автобио-реконструктивной) вполне возможен, как театральный феномен, и даже желателен порой, а иногда, пожалуй, и необходим, чему доказательства я уже привел в свое время на страницах моей III книги «Театра для себя», в очерке «Инсценировки воспоминаний».
«Трижды благословен театр воспоминаний,—заявлял я в этом очерке (стр. 194), — превращающий прошлое в настоящее, бывшее в сущее, «нет» в «есть». Я хохочу в лицо злому Времени-Сокрушителю! В своем «театре для себя» я с наслаждением ему доказываю, что доколе я жив, дотоле ничто не умрет для меня! Ничто не может, умереть в границах моего хотенья, в границах силы моей памяти, в границах магии моего преображающего духа!
Для меня давно уж стало совершенно ясным, что обратить мнемоническое представление в представление живой действительности можно только чрез театр, т. е. чрез искусство инсценировки памятных моментов из купной жизни нашего «я» с «я» похищенного Временем. Что при таких инсценировках главное для режиссуры этого рода «театра для себя» состоит в том, чтобы по возможности воспроизвести (оживить) все те обстоятельства. при каких имело место особенно памятное для нас общение с исчезнувшим. — об этом, я думаю, не стоит и распространяться, в виду полнейшей очевидности этого главного для «театра воспоминаний».
Я ограничусь лишь напоминанием, что обращение «момента прошлого» в «момент настоящего» возможно только при такой инсцене, во главе угла которой положен строгий до последней мелочи, в своей психологической предустановленности, ассоциативный метод. Поэтому порой от, так сказать, второстепенного зависит здесь главнейшее, т. е в конце концов оживление до полной иллюзии как бы «сущего в настоящем» того, о чем ненагретая ассоциативной инсценой память говорит нам как о «существующем в прошлом» .
Наше «я»—учит Анри Бергсон—не может снова пройти сквозь прежние свои состояния, потому что сознание подобно потоку, постоянно увеличивающемуся и никогда не возвращающемуся к своим истокам. «Не наше настоящее я, — говорит он, — возвращается к прошедшему, чтобы найти в нем события, о которых оно желает вспомнить. Напротив, наше прошлое, следуя естественному наклону психологической жизни, спускается до нашего настоящего. Иначе сказать, для того, чтобы вспомнить, мы должны покинуть настоящее состояние сознания и переделать его на подобие прошлого».
Вот это самое, т. е. переделка настоящего в прошлое, но уже не духовно, а материально, и является ближайшей задачей режиссуры при инсценировке воспоминаний.
Все это так. Но все это касается в конце концов театра «для себя», а не театра «для других».
Никто не видел до сих пор «автобио-реконструктивной» маски, — как я ее называю, — на сценической площадке перед многолюдным собранием. Самая мысль о такой маске на публичном спектакле кажется нам невозможной странностью и уж подлиною «неслыханностью» в точном смысле этого слова.
А между тем такую именно «невозможную странность», такую именно в точном смысле «неслыханность» мне довелось увидеть однажды, и об этом я хочу (я должен) здесь хоть кратко рассказать.
Начало моего рассказа очень просто.
Познакомился я года два тому назад с педагогом 13-й Единой Трудовой Школы (быв. 3-й гимназии), Николаем Павловичем Ижевским,—личностью высоко-одаренной во многих областях науки и искусства, с умом по своему пытливым и потому совсем оригинальным «в подходе к вещам». Прекрасный музыкант, театровед и просто душевно-симпатичный человек,— Н. П. Ижевский пленил меня сразу настолько, что мы с ним очень скоро, что называется, «сошлись»; часто подолгу «музицировали», играя в четыре руки opus’ы новейших композиторов, вели беседы об интимнейшем в жизни человека, обменивались откровенностями, делились секретами.
Из последних Н. П. Ижевский поведал мне однажды «историю», которая его глубоко волновала и как педагога, и как психолога-философа. — Четырнадцатилетняя девочка, прельстительная внешностью и чарами своего детского кокетства, пленила шесть учеников старшего класса, в возрасте от 14 до 16 лет, которыми, как в смысле образования, так и в смысле нравственного развития не только интересовался «по долгу службы», но,— скажу прямо, — просто лично увлекался Н. П. Ижевский, смотревший на своих учеников, как на своих младших товарищей.
Последние не скрывали от своего друга и духовного руководителя никаких тайн; понятно, что и их коллективное, а вместе с тем и дифферентно- индивидуальное увлечение девочкой-подростком не могло долго оставаться в неизвестности для зоркого и вызывающего на последнюю откровенность Н. П. Ижевского.
Вскоре дневники, письма, стихи, словом все, имевшее непосредственное отношение к оригинальному «роману» школьников, стало достоянием гуманно-просвещенного педагога, пристально-внимательно отнесшегося к «Frillingerwachtung» в стенах родной ему школы.
Он первый из педагогического персонала узнал, что для каждого из шестерых «влюбленных»—самыми дорогими были инициалы «Н. П.», которые нещадно вырезывались перочинным ножом чуть ли не на всех партах и украшали все стены класса, что все разговоры неизменно сводились к одному и тому же разговору о «ней», что все, что связывалось с «ее» именем, обладало животрепещущим интересом и почти ничего, кроме «нее» не существовало в то время для впервые влюбленных. «Один за другим завязывались романы, сплетались друг с другом, сталкивали дружбу с изменой, притворство и ложь с искренними чувствами, запутывая все больше и больше взаимные отношения, заставляя чуть ли не в один и тот же день говорить совершенно разными словами об одном и том же. И незаметно, — сообщает один из «героев» этого «романа», но бесповоротно, роковым образом сказалось все это на дружбе тех шестерых которые составляли единую и нераздельную, как казалось, шестерку; сна¬чала это способствовало как будто еще большему сближению друг с другом, потом стало наступать заметное охлаждение, образовывались более тесные группы по два, по три человека, состав их беспрестанно менялся, натянутые отношения быстро сменялись особо короткими, через-чур дружескими, в большинстве случаев остававшимися, однако, искусственными отношениями… Эти переживания, эта игра, не то в шутку, не то в серьез, этот маленький театр, который устраивал каждый для себя — наполняли жизнь не только шестерки, но и тех, участие которых сначала во всем этом не обнаруживалось, а потом совершенно случайно открылось… Можно сказать, почти весь класс жил одним и тем же…»
Можно подумать, что в этом «недоуменном казусе», совершенно исключительном в педагогической практике, Судьбе угодно было послать настоящее испытание находчивости и такту талантливого наставника. Н. П. Ижевский, повидимому, сразу понял это и дал себе немедля ясный отчет в «происшедшем».
В результате такового отчета и подлинно недюжинного ума соображений, Н. П. Ижевскому, горячо сочувствовавшему весенней жизни класса и целиком увлеченному «романическим водоворотом», в какой попали юные и потому совсем неопытные «питомцы науки». — пришла в голову прямо-таки невероятная, немыслимая, на первый взгляд, идея: инсценировать весь этот необычайный «роман», со всеми его сложными перепитиями, и заставить кровных участников его изобразить самих себя, со всеми их интимными переживаниями на подмостках театра.
Нет ничего удивительного, что подобная идея сразу же встретила единодушный протест со стороны тех, кто призывался реализовать ее персонально на сцене. Тем более, что по первоначальному замыслу автора этой идеи обстановкой пьесы должна была служить школьная жизнь:— слишком уж реальными, болезненно реальными могли показаться артистам их роли, с одной стороны, а с другой—на скользкой тропе полной реализации событий и переживаний слишком трудно было устоять так, чтоб не скатиться в сторону фарса вроде «Иванова Павла», соч. Раппо-порта. Вместе с тем школьная жизнь, — по мнению «шестерки», — пред-ставляла слишком мало данных для серьезной сценической интерпретации, другими словами, эта жизнь не была достаточно театральна! Наконец, весь материал, все жизненное, драматическое действо стояло в слабой связи со школьной жизнью, вернее, с ее внешней формальной стороной.
Тот цикл эпизодов из жизни «шестерки», который привел Н. П. Ижевского к его идее инсценировки, представлял собою совершенно завершенный круг, всплывший на фоне отличной от школьной жизни, и было бы большой ошибкой в трактовке такого «сюжета» ввести его на сцене в школьные рамки!—Ведь в жизни он вышел из них и захватил широкой волной всех своих участников, почти одновременно! Эта одно¬временность может с первого взгляда показаться странной, но разъясняется, если принять во внимание тесное духовное общение, существовавшее между группой лиц, бывших в интересовавшей Н. П, Ижевского инсцени¬ровке «действующими лицами».
Когда все эти соображения были приняты Н. П. Ижевским во внимание и когда он, хорошо познакомившись с материалом задуманной инсценировки, задался вопросом, каким сценическим символом обозначить ту законченность и выделенность действа, которые стали столь очевидными для всех,—между педагогом и его учениками состоялось совещание, на котором, после страстных «дебатов», было вынесено поистине знаменательное для истории театра и педагогики постановление о возможности и желательности постановки в стенах школы пьесы из жизни уча¬щихся, изображающих их самих in perfectum в их же собственном исполнении. Тут же был разрешен вопрос о степени полноты соответствия между действительно бывшими фактами и их сценическими отображениями и состоялось решение об облечении всего «романического» материала в форму комедии ael’arte, разыгрывающейся на фоне карнавала.
Это решение сразу-же перенесло дело из области теории и мечтаний в область действительности, примирив некоторые пререкания из-за создавшихся противоречий, хотя в то же время создавая ряд новых, быть может, еще более затруднительных.
Приступили к репетициям.
— «В строгом смысле слова их нельзя было назвать репетициями, — сообщает в присланном мне «мемуаре» А. Вальтер, один из участников готовившегося спектакля:—например, первая репетиция была почти исключительно посвящена разрешению некоторых сценических проблем. Дело в том, что, приняв комедию del arte, как скелет для расположения материала, мы себя связали некоторыми обязательствами относительно действующих лиц; попросту говоря, нам пришлось вкладывать в схему содержание, в сильной степени ей не соответствующее. Наши действующие лица не укладывались в роли Арлекина, Пьеро и т. д., как по характеру отдельных участников, так и по некоторым сценическим требованиям. Наша поста¬новка была очень строгой инсценировкой действительности: все, даже чрез¬вычайно мелкие эпизоды явились отражением действительно случившегося, и действующие лица, поскольку возможно, играли самих себя. Этими соображениями объясняется введение в comedi’io del’arte доктора Фауста, «человека без маски», разговора о естественности и лжи в любви и т. д. С другой стороны, некоторые детали были внесены из соображений чисто сценических, в целях скрепления и объединения отдельных эпизодов, а также ради оживления инсценировки; таковыми, например, явились введение пролога, Мага и его ученика и т. д.».
«Основной задачей репетиций—продолжает А. Вальтер—была выработка сценария и эта задача была проведена исключительно на репетициях. Ролей не было. Каждый сам говорил то, что считал нужным, каждый сам творил свою роль. И эта задача оказалась весьма затруднительной. Очень трудно даже составить представление о том. что заключается в задаче «играть самого себя», это очень и очень сложная задача. Поскольку мы ее разрешили, нам сказать трудно. Но, все-же, несомненно, наиболее трудной, наиболее неблагодарной задачей представлялась выработка сценария. Технически она производилась непосредственно на репетициях— актеры играли, не учавствовавшие в данных сценах вносили свои поправки и предложения, и мало по малу, кирпич за кирпичем, создавалось здание нашей инсценировки. Это была до крайности невзрачная и в то же время колоссальная работа. Надо принять во внимание, что участвующие все были весьма юного возраста, 15—16 лет. Было лето, хотя еще и шли учебные занятия; времени было мало. Был целый ряд чисто технических затруднений в смысле постановки: отсутствие сцены (в. общепринятом смысле слова), отсутствие каких бы то ни было технических сценических средств, однородность освещения, отсутствие музыканта (пианиста). (Надо заметить, что импровизация артистов происходила на музыкальном фоне). Николаю Павловичу Ижевскому приходилось одновременно и давать советы артистам, и обрабатывать сценарий, и играть на рояли. Еще одной из наиболее существенных причин трудности проведения данной постановки была интимность и тонкость переживаний, которые приходилось открывать на каждой репетиции, почти в каждом жесте артиста. И еще чрезвычайно много обстоятельств затрудняли проведение в жизнь постановки. Словом—было отчего придти в отчаяние и актеру, и режиссеру, и автору. Актеру—от трудности (в сценическом отношении) его роли и от неопределенности ее, и, благодаря тому, что ему приходилось играть самого себя; режиссеру—от недостатка технических средств, от невыработанности сценария; автору—от чрезвычайной затруднительности согласовать свои замыслы с требованиями актера и режиссера, и если теперь принять во внимание, что актер, режиссер и автор—все трое совмещались в лице каждого из артистов, станут до некоторой степени понятны те трудности, которые нам пришлось преодолеть и которые не могли не отразиться на пьесе, придав ей некоторую неоднородность в структурном отношении, некоторые длинноты и другие сценические недостатки. Я и сейчас с удивлением думаю, каким образом нам удалось перешагнуть через все эти затруднения, и полагаю, что громадную, исключительную роль в этом сыграл Николай Павлович, который своим неутомимым и настойчивым преследованием цели, своей энергичностью и неунывающей бодростью заразил исполнителей; благодаря ему, в сравнительно короткий срок была проведена выработка сценария и срежиссирована с психологической, а отчасти и с внешней сто¬роны общая композиция инсценировки».
«Выработка отдельных ролей, как я уже говорил (пишет А. Вальтер), принадлежала отдельным артистам, что, конечно, внесло свои благоприятные и неблагоприятные стороны в общую композицию. С одной стороны была избегнута некая однотонность, которая являлась следствием того, что человек, как бы он объективен ни был, не может совершенно по произволу менять свою точку зрения. С другой стороны это обстоятельство внесло, быть может, некую излишнюю пестроту и неоднородность в инсценировку; я. конечно, как участник, в этом деле не судья».
«Окончательную, чисто зрительную режиссуру, режиссуру жеста и движения взял на себя Михаил Дмитриевич Туберовский, которому принадлежит композиция движения в прологе и некоторые изменения движений в других действиях. Об них говорить, конечно; довольно трудно, надо видеть движения; но, в конечном счете, я думаю, что и М. Д. Туберовскому принадлежит довольно значительная доля в общей концепции сце¬нической непрерывности».
М. Д. Туберовский вместе с тем заведывал и художественно-декоративной частью, где работа была достаточно обременительной, особенно в области костюмов, которые пришлось буквально сшивать по кусочкам.
Получившаяся в результате всего этого импровизационного коллективного творчества пьеса была озаглавлена «Так было—так не было»,— названием, которое как нельзя более подходило к «условному» замыслу юных автобиореконструктивистов.
О действующих лицах этой необычайной, абсолютно новой как по содержанию, так и по фактуре пьесы, А. Вальтер сообщает следующие данные.
Маг и его ученик
— введены почти исключительно с целью придать пьесе некую законченность; являются лицами, очевидно, вымышленными и никого не преобразующими. Участвуют в прологе с целью несколько пояснительной, т. е. объясняют зарождение карнавала, его чудодейственность и мистичность; маг и ученик введены также в четвертом действии—с целью избежать монолога Коломбины (обусловливающего ее возвращение в карнавал).
Франт с цепочкой.
Личность по преимуществу комическая (с цепочкой — потому, что носил таковую в целях придания себе более респек¬табельного вида: не имея часов, носил на оной свисток), несколько фатоватая, и из поклонников Коломбины наиболее серьезный, однако, весьма изящный и… пустоватый.
Подруга Коломбины.
Личность до некоторой степени собирательная (у подлинной Коломбины оных подруг было количество изрядное). Введена отчасти для связности действия, с целью дать возможность выяснения психологии Коломбины из диалогов. Особа сама по себе в достаточной мере бесцветная, хотя и весьма добродетельная.
Доктор Фауст.
Личность по стилю не слишком подходящая к комедии del’arte, но вынуждены были ее ввести, так как «Фауст» является образом наиболее подходящим из всех известных сценических и литературных героев к лицу, действительно существовавшему среди поклонников Коломбины. Этим достаточно выясняется характер действующего лица. В кратких чертах—личность цельная, тип интеллектуально волевой, но в то же время совсем не похож на человека «не от мира сего». Любовь его к Коломбине также носит черты, отличающие его характер. Она—по пре-имуществу головная, в достаточной мере абстрактная, но—постольку— поскольку… Фауст пользуется уважением среди кавалеров карнавала, но Коломбина шутит с ним, как и с другими кавалерами, только с большим увлечением.
Человек без маски
(именуемый «вольным сыном природы» и другими значительно менее почтенными именами). По темпераменту — холерик, по характеру — тип преимущественно волевой, житель леса, упрямый, прямолинейный, довольно простодушный, но в то же время тонко чувствующий. В то время, как почти все кавалеры карнавала чувствуют себя в карнавале—в своей атмосфере, человек без маски угнетен его условностями. И потому, как личность свежая, а не манекен карнавала, он производит на Коломбину неотразимое впечатление, ему даже удается извлечь возлюбленную из вихря карнавала, но не надолго, потому что Коломбина без карнавала жить не может.
Арлекин.
Личность соответствует во многом образу классического Арлекина. Веселый, себе на уме, дружен со всеми кавалерами карнавала, что не мешает ему, однако, секретно с Коломбиной одурачивать их. Личность художественно эмоциональная. Играет на гитаре. Пленяет сердца дам карнавала. Пленил и Коломбину, но как то поверхностно («ты, единственный»—в сторону): — «на время карнавала». Легкомыслен, подвижен; одним словом к нему, да к Коломбине, пожалуй, подходят более всего их классические имена.
Коломбина.
Легкомысленная, не слишком умная, но очаровательная, царица карнавала. Одурачивает всех кавалеров; с Арлекином то сердится, то мирится. Один раз серьезно за время карнавала на нее подействовала встреча с «человеком без маски»; она уже готова была покинуть карнавал с тем, чтобы идти за ним, но ее легкомысленная натура не позволяет ей этого; она возвращается на карнавал, влекомая его чарами.
Пьеро.
Личность и драма этого лица не вполне укладываются в классический образ Пьеро. Он Пьеро — постольку, поскольку дело идет о любви к Коломбине—тут он неумный и безнадежный вздыхатель, как и подо¬бает. Но в его роль вкладывается новый материал—его недовольство общей обстановкой, лживостью и неестественностью карнавала. В этих вопросах он, по воззрениям, сильно отличается от Фауста, который, наоборот, настаивает на том, что в любви ложь—самое драгоценное, что в карнавале именно и хороша его причудливая искусственность; на почве этого разногласия у Пьеро с Фаустом и возникают споры, которые впрочем не приводят к определенному результату.
Вот краткий конспект пьесы, почти целиком разыгрывавшейся на фоне музыки.
ПРОЛОГ.
(Раздается музыка, вначале нежная и томительная, потом величавая и грозная, переходящая, по знаку Мага, в музыку карнавала). Входит Маг, сопутствуемый уче¬ником. Жалуется на зубную боль. Он истощил все способы и решил карнавалом заглушить свои страдания. По данному ям знаку из глубины выбегают по очереди одетые в плащи Коломбина, Подруга, Арлекин и Пьеро. Маг к ним прикасается, уче¬ник одевает на всех каски. Из публики раздается крик Фауста—«можно и мне?». Ему разрешают. Общий танец.
Действие 1-е.
Явление I. — Коломбина и Подруга бегут по сцене и прячутся за ширмы.— 1L Фауст. Арлекин и Пьеро — ищут. — III. Коломбина и Подруга выходят, говорят о кавалерах; Коломбине нравится Арлекин; Подруга обвиняет Коломбину в легкомыслии (убегают).—IV. Франт и Фауст. Фауст знаком с Коломбиной, Франт просит и его познакомить.—V. Арлекин вбегает, здоровается с Франтом, вынимает платок, теряет книжку, убегает в публику.—VI. Входят Коломбина и Подруга. Коломбина поднимает книжку. Подруга не рекомендует читать и уходит. Коломбина читает— В книжке женские имена.—VII. Арлекин. «Простите за тайны», — разговор с Коломбиной, дарит ей розу, расходятся.—VIII. Подруга с Коломбиной. Входит Фауст, читая письмо, в письме—поклон Коломбине.—IX. Входит Франт. Фауст представляет его дамам, Франт приглашает Коломбину на менуэт (уходят).—X. Входит Пьеро; на авансцене он обращается к публике. Пьеро влюблен—ищет Коломбину. Коломбина: «какой чудак»—уходит.—XI. Арлекин входит, здоровается с Пьеро, Пьеро спраши¬вает—не видел ли Коломбины, приходят Франт и Фауст, все вместе ищут Коломбину; Пьеро неуважительно отзывается о Франте, их разнимают. (Пьеро, Франт и Фауст уходят).—XII. Коломбина (входит). Арлекин объясняется в любви, Коломбина— также. Кто-то идет (уходят за ширмы).—XIII. (Входят) Пьеро, Фауст и Франт. Ищут Коломбину и Арлекина—кричат в публику, Арлекин и Кол. откликаются за ширмами (Франт и Фауст уход.).—XIV. Пьеро на авансцене, Коломбина и Арлекин выходят из-за ширм, садятся на скамейку; Коломбина предлагает одурачить Фауста, Арлекин не соглашается, отворачиваются. Между ними садится Пьеро, оба его целуют, узнают свою ошибку, выталкивают. Арлекин соглашается одурачить Фауста.
Действие II-е.
Явление I. Пьеро и Коломбина спорят из-за одного костюма, держат пари; Фауст на сцене. Спрашивают Фауста, на что им спорить. Фауст—«спорьте на мою любовь».—II. Коломбина и Фауст. Сзади Арлекин закрывает Фаусту глаза, Фауст вырывается, видит Коломбину. Коломбина завлекает Фауста. Арлекин (за ширмой)— «не пора ли кончить?» Коломбина убегает.—III. Входит Франт. Франт хвастается перед Фаустом, будто его любит Коломбина (уходит).—IV. Входит Арлекин. Арлекин убеждает Фауста в том, что его, Фауста, любит Коломбина.—V. Арлекин с гитарой. Пьеро и Франт. Фауст учит песнь про сердце Коломбины.—VI. Проходят Коломбина и Подруга. Все кавалеры по своему смущены. Франт деланно возмущается. Пьеро упал со спинки скамейки кверху ногами. Влопались. Фауст, Франт и Пьеро уходят.— VII. Арлекин и Коломбина. Коломбина—«кто сочинил эту песню»; Арлекин—Фауст (уходит).—VIII. Фауст и Коломбина. Коломбина возмущена; Фауст дарит ей стихи (Фауст уходит) —IX. Коломбина на скамье читает- стихи, Пьеро слушает, объяс¬няется в любви (уходит).—X. Коломбина и Фауст. Коломбина просит Фауста на-писать письмо Франту, в котором она назначает ему свидание. Фауст сперва не хочет обманывать друга, потом соглашается (уходит).—XI. Фауст идет на сцену с книгой. Арлекин (подбег.) «Фауст у тебя книга перевернута» (вбегает на сцену за ширму).—XII. Входит Коломбина, встречается с Фаустом. Фауст принес письмо. Ко¬ломбина бросает письмо так, чтобы Франт нашел его. Фауст объясняется в любви, Коломбина его дурачит. Арлекин из-за ширмы благословляет их (уходят).—XIII. Франт поднимает письмо, читает, ему назначено свидание в 8 час. на этом месте. Спра¬шивает у публики—«который час?» — «8 часов.».—XIV. Входит Пьеро, садится среди сцены, Франт старается его выгнать, показывается из за ширмы Коломбина. Франт целует ей руку, Пьеро уходить не хочет. Франт выталкивает Пьера. Коломбина убе¬гает. Франт ищет.—XV. (Собираются) Арлекин, Фауст, наконец, Пьеро. Франт бро¬сается на Пьеро—их разнимают.—XVI. (Входят) Коломбина с Подругой все идут ужинать (Коломбина утешает Франта).
Действие III-е.
Явление I. Франт, Фауст и Арлекин. Франт хвастается любовью Коломбины. Арлекин советует не думать, а действовать,—II. У входа в зрительный зал шум. Человек без маски хочет войти, его не пускают, он вламывается. Арлекин, Франт, Фауст здороваются с человеком: «откуда ты?» — «Из болота». Разговор о карнавале и Коломбине. Человек хочет видеть,—III. Ученик Мага. Не хочет пускать человека. Человек бьет ученика, -1У. Фауст и Пьеро. Разговор о любви и искусственности. Спор. Расходятся.—V. Пьеро и Коломбина, Пьеро негодует Коломбине на ложь в карнавале. Коломбина не понимает. Расходятся.—VI. Арлекин грустный. Колом¬бина вбегает- Арлекин ревнует, но потом мирятся, целуются (Коломбина убе¬гает).—VII. Фауст (входит), видит целующихся, негодует. Арлекин обещает оставить Коломбину, возобновляют дружбу, идут в трактир.—VIII. Человек (в публике). Ко¬ломбина играет в мяч на сцене, кидает человеку, тот ловит. Коломбина убегает.— IX. Человек с мячиком. Арлекин и Фауст (входят). «Чей мячик?»—«Коломбины», Арлекин и Фауст предлагают одурачить Коломбину. Человек соглашается. XI.-—Входит Коломбина. Коломбина и человек. Коломбина—все кавалеры – «это только шутка». Человек— «не верю» (отдает мячик).
Действие IV-e. Явление 1. Кодомбина и Подруга. Коломбина — «я чувствую что-то такое. Человек — «лучше из всех ты».—II. Фауст (входит). Коломбина. Фауст — «я хочу видеть душу Коломбины». Коломбина—«а если у Коломбины нет души?» Фауст—«тогда прощайте, Коломбина» (уходит). III. Пьеро (входи). «Прощайте, Коломбина. Я уезжаю, если вы покинете карнавал, то вас будет ждать Пьеро» {уходит},—IV. Коломбина и Человек—«я люблю вас, я житель леса, люблю природу и т. д. (монолог), хотите идти за мной?» Коломбина—«хочу», снимает маску (уходит в публику).—V. Вбегают Фауст и Арлекин. Смотрят вслед Коломбине без маски; «мы одурачены».—VI. (Входит) Франт. Хвастается победой над Коломбиной, ему показывают Человека с Коломбиной. Франт падает в обморок. Придя в себя: «Она без маски проигрывает; пойду на Испанскую площадь, там меня ждет Лаура» (уходит).-VII. Ученик и Маг. Маг делает заклинание. Коломбина должна вернуться, она возвращается, ученик надевает маску, маг и ученик уходят.—VIII. Входит Арлекин, видит Коломбину в маске. «Наша игра кончилась»; за сценой слышен голое Франта. Коломбина с Арлекином вальсируют, уходят.—IX, Ученик Мага. «Их игра кончилась. Всему конец».
Пьеса эта была представлена 25-го июня 1921 года.
Я видел спектакль этой пьесы и считаю его счастливым событием в моей жизни,—жизни профессионально-театрального мастера, т. к. впервые узрел на этом спектакле невиданную мной до тех пор автобио-реконструктивную маску, соборно явленную не «для себя» только, а и «для других».
Писать об этом спектакле в плане обычной журнальной театральной критики как-то не хочется, да, пожалуй, и не нужно. Играли хорошо, но… ведь это-же были не актеры, к которым приложима обычная мерка!.. Декорационное обставление сцены было недурно, просто, со вкусом, в мулром расчете на условную минимальность… но опять-таки ведь это-же была не сцена, а только эстрада актового зала бывшей 3-й Гимназии!.. Костюмы, хоть и «буквально сшитые из лоскутов», в общем вполне отве-чали карнавальности действа, но… «подходить» к ним, как к нарядам из театральной гардеробной, по эскизам художника ad hoc выполненным, разумеется, не приходится!
И то-же можно сказать про текст (alPimproviso), про музыкальное сопровождение, про грим, про танцы и вообще про всю пластическую сторону спектакля «Так было—так не было».
Но в этом спектакле заключен был интерес, куда более притягательный, чем даже в самом безукоризненном представлении виртуозно сыгравшейся первоклассной труппы. И я без всякого преувеличения скажу, что, если бы меня тогда, накануне 25-го июня 1921 года, позвали на спектакль, «поставленный» самим Гордоном Крэгом или Максом Рейнгардтом, при участии Шаляпина, Сары Бернар, Элеоноры Дузэ и им подобных,— я бы все-таки пошел на спектакль «Так было—так не было», предста¬вленный юнцами-любителями, да еще под руководством театрала-любителя, потому что здесь меня ждало совершенно новое, в своем задании и в своей реализации, зрелище:—соборно срепетованный и публично предста-вленный спектакль новых масок, неизвестый еще в истории театра, и имевший конечной целью смелый и высокий в своем замысле, педагогический эксперимент.
Какой эксперимент, и удался ли он, — это легко поймется из следующего «диалога» между мною и Н. П. Ижевским, через неделю после предста-вления «Так было -так не было».
- Ну, что, Николай Павлович! В каком положении «роман» ваших учеников? Кому после спектакля отдает «преферанс» очаровательная « Колоибина?»
Н.П. Ижевский лукаво улыбнулся и тихо произнес:
- «Романа» больше нет; он сценически изжит.
- Новый вид «театро-терапии?» — спросил я, вспомнив о своей статье, за год до этого диалога помешенной под таким названием в одном из номеров «Жизни Искусства»
— Назовите это как хотите, — отвечал Н. П. Ижевский, — но факт налицо: они стали «равнодушны» к предмету своего увлечения! А некоторые, так даже слишком «трезво», пожалуй, критикуют игру Н. П.:—и не сегодня-завтра эта критика от игры на сцене перейдет к игре «партнерши» в жизни.
Словом—любовное навождение, гнетущее, не взирая на всю свою сладостность, вредное своей скороспелостью для слишком юных душ, опустошительное для них самим обогащением их преждевременным «любовным опытом», навождение, создавшее ненормальную атмосферу класса, искусственный язык между закадычными друзьями, бесплодное раздражение нервной системы и, наконец, просто помеху учебным занятиям,—это навождение было легко, красиво и мудро рассеяно чарами театра по инициативе и под руководством высоко-просвещенного, гуманного и смелого в своих опытах педагога.
Н. П. Ижевский, повидимому, хорошо внял Аристотелю, учившему о кафарзисе (очищении), как о конечной цели драмы. Но я думаю — никогда, ни до Аристотеля, ни после него изживание страстей, приводящее к благостному очищению от них, не ставилось целью спектакля для самих его участников.
«Так не было» ни до, ни после Аристотеля!
«Так было», — и было победно-успешно, — можем мы теперь сказать, лишь после опыта педагога Н. П. Ижевского в 13-й Единой Трудовой Школе 25-го июня 1921 года.
Н. Евреинов.
_______________________
P. S.
(Написано Н. Соколовым, Заведующим 13 й Советской Трудовой школой (б. 3-й гимназией))
Н. Н. Евреинов уже отметил в своей статье, что спектакль «Так было — так не было», поставленный покойным Н. П. Ижевским 25-го июня 1921 г. в б. Петроградской 3-й гимназии, имел «конечной целью смелый и высокий в своем замысле, педагогический эксперимент»; и на протяжении всей своей статьи Н. Н. Евреинов все время ясно говорит о работе Н. П. Ижевского, как педагога. Наконец, и самый факт постановки подобного спектакля в стенах школы обязывает и к известной оценке его с точки зрения именно педагогической. Вот почему я и позволил себе согласиться на предложение Н. Н. Евреинова, чтобы я — именно, как педагог, — сказал несколько слов по поводу этого спектакля, — хотя я совершенно ясно сознаю, что мне придется добавить к словам Н. Н. Евреинова очень немного.
Я коснусь только одной последней мысли Н. Н. Евреинова: насколько это окажется возможным для меня, я хотел бы документальным путем доказать» каким образом—действительно—удался тот педагогический эксперимент, о котором говорит Н. Н. Ннреинов.
В бумагах Н. П. Ижевского, переданных мне после его смерти, я нашел довольно большую, но, к сожалению, недоконченную его работу об этом спектакле, которую он, как мне еще в свое время было известно, готовил, по предложению Н. Н. Евреинова, для печати. В ней Н. П. Ижевский определенно говорит, что, по его мнению, его постановка «имела интерес и театральный, и педагогический». И вот, что касается последнего, то здесь, насколько я могу судить, Н. П. главным образом имел в виду «результаты этого спектакля для его отдельных участников». Для выяснения этого он располагал чрезвычайно интересным и прямо-таки драгоценным материалом в виде собственноручных, совершенно откровенных признаний всех главных действующих лиц о том значении, какое, по мнению каждого из них, постановка имела и для данного лица, и для всех остальных. ‘Все наиболее важное и ценное в этих «мыслях и впечатлениях» Н. П. Ижевским или самим сведено к некоторым итогам, или подчеркнуто и отмечено им на подлиннике, или — наконец—сформулировано, в нескольких словах относительно каждого лица, в «плане» работы.
Пользуясь всем этим материалом, я и позволю себе привести буквальные слова самих участников, чтобы по этим настоящим «человеческим документам» можно было судить, насколько прав Н. Н. Евреинов в своем утверждении о педагогической ценности данного спектакля.
Все главнейшие «отзывы» участников постановки можно свести к следующим двум. 1) о самом чувстве и об «объекте» их чувства и 2) об их взаимных отношениях.
По поводу первого, вот что пишет один из них: «инсценировка помогла мне в полтора месяца, скоро и безболезненно, освободиться и от любви, и от разочарования, которое ждало бы меня неминуемо, если бы этот кризис был предоставлен самому себе». Другой говорит, что, пережив с момента первой репетиции несколько «иллюзий» и отчетливо называя их теперь «самообманом», он «во время последних репетиций любовь переменил на совершенно другое чувство—и при том бесповоротно, потому что это — как ему стало ясно — был единственный выход из положения». Интересны показания третьего: «я—человек чувства, а не мысли,—пишет он. Период репетиций был для меня тернистый путь; прямо говорю — я распят был и провисел дольше Христа (да простит меня господь всемилостивый!); муки, кажется, какие есть только на земле, познал я. Конец второй недели репетиций, — и уже пришел и мой конец, я хотел бросить все… И вдруг— стала чувствоваться перемена, легкая, как прохладный ветерок в жаркую пору. И я стал чувствовать, что только тело, одно только мое бренное тело висит на виселице, а душа сидит внизу и смеется… Мысли—черные, как ночь,— стали менять^ цвет. На горизонте показывалась слабая полоса зари, ширилась, росла, становилась определенней, и мысли черной ночи летели прочь, и видно было, как в подымавшейся испарине таяла виселица, а кругом, разливался радужный, розовый цвет зари моей души… Утро наступило и потекла спокойно жизнь. Теперь — я жив душой!»
Разве это не яркое доказательство того «катарзиса» Аристотеля* о котором напоминает в своих заключительных строках Н. Н. Евреинов?!
Одна из главнейших причин такого действия постановки (а потому едва ли и не главнейшая заслуга ее) была в том, что она выявила для всех участников истинное лицо «героини». В цитируемых мною материалах имеются многочисленные и подробнейшие отзывы о ней, начиная с момента знакомства с ней и до конца спектакля (некоторые заглядывали даже дальше и говорили о ее будущем)* По образному выражению (которого я, к сожалению, не могу привести полностью) одного из них, в конце концов для него стало совершенно ясно, что «этот хорошенький зверек есть никто иной, как… бобр, грызущий душу другого»… Соответственно этому, давалась и оценка— очень красочная—этому «зверьку». В одном из наиболее сдержанных (в смысле «выражений») отзывов говорится, что автор его «разгадал Коломбину своего «сердца»: он понял, что она была «твореньем его воображенья» и что в действительности она является «девицей весьма занятной, но и только»… Вот еще отзыв—из той же серии: «если меня теперь спросят,— что такое Коломбина, я отвечу, что это—хорошенькая барышня, у которой, кроме прелестной оболочки и очаровательного легкомыслия, нет ничего». Отсюда вполне понятно, почему все участники почти единогласно говорят, что инсценировка на «Коломбину» не произвела такого сильного и положительного действия, как на них. Тем не менее, в интересах истины здесь все-таки придется внести некоторую поправку. Сама «Коломбина» в своем «мемуаре» отмечает, между прочим, следующее: «Теперь, когда все кончилось, мне кажется, что именно репетиции и заставляют меня сейчас подумать о том, что я сделала. Я ставила себя на место N (одного из мальчиков) и думала, что если бы над моим чувством насмеялись так же, как над его,—как было бы больно мне!»… Что это — как не «раскаяние»?! Таким образом, и здесь мы видим некоторый все таки положительный и, пожалуй, для «Коломбины» даже совсем не маловажный «результат» постановки.
Не менее единодушны все участники инсценировки в оценке ее «благотворного» (их собственное выражение) значения для их личных отношений между собой. В статье Н. Н. Евреинова есть указания на то, что перед началом репетиций эти отношения из прежних, близких и товарищеских, сделались довольно-таки натянутыми. По словам одного из участников, все чувствовали, что «ядро их распадалось», и серьезно опасались, что «все хорошее, что могло бы быть создано ими, погибнет». «Кто же спасет это?»—взывал он. Спасла инсценировка, весь ее процесс. Один из участников, раньше других почувствовавший, что «в карнавале для него все уже кончилось», стал для некоторых «тихою пристанью»; в разговорах с ним «изливались наболевшие души», говорили с ним обо всем, и все стали друг другу — по их собственным словам—«близки, очень близки, так близки, как никогда». В результате, например, «два (бывших) друга,— как признается один из них—пережив много тяжелых минут, в особенности тогда, когда каждый думал плохо о другом и не хотел подумать того же о себе, наконец, только теперь, после спектакля, могут прямо глядеть друг другу в глаза».
В связи с этим не могу, хоть коротко, не отметить еще одного, с педагогической точки зрения,— несомненно ценного обстоятельства. В пьесе, как известно, было всего только две женских роли: «Коломбины» и ее «подруги». Последнюю роль играла ученица того класса, из которого были все мальчики; сама она, по ее собственным, совершенно справедливым, словам, «во всей этой истории была человек посторонний». И вот все почти участники единогласно утверждают, что благодаря постановке случилось «то, чего раньше никогда не могло бы быть»: эта ученица,—говорят они,—«теперь вошла в наш круг, сделалась нам близким человеком, что одинаково полезно и нам, и ей». Это же, в свою очередь, вызвало—по выражению одного из них—целую «реформу отношений», вообще ко всем ученицам, к женскому элементу в бывшей мужской гимназии, было признано, что с ними—«оказывается»—«можно вместе работать можно создать дружески—милые, хорошие отношения (не как с «Коломбиной»)» и т. д.
Думаю, что после всего этого становятся совершенно понятными те, хотя и не красноречивые и скорее даже застенчивые слова «душевной благодарности» за устройство инсценировки, какие встречаются почти в каждом «мемуаре» ее участников. И правы были те из них, которые говорили, что в этой постановке они видят не «искусственный», но «искусный» — «конец тому уродливому клубку сплетений их чувств, который иначе немыслимо было бы размотать». А раз так, то и педагогу остается только подписаться под тою выразительною оценкою этого спектакля, какая дана ему таким знатоком и авторитетным «мастером театрального дела», как Н. Н. Евреинов.
Для строгих судей— педагогов я, в заключение, позволю себе указать еще на некоторые, хотя и мелкие, но, возможно, для них и не маловажные детали. Это, прежде всего, то, что все ученики — участники и творцы инсценировки «Так было — так не было» — по отзывам всех, знавших их — преподавателей и других лиц, представляли собой редкое и счастливое явление в школьной среде, блестящую по способностям группу,—все очень развитые, с определившимися индивидуальностями и, хотя очень мало между собой схожие, но дружные и тесно связанные. И только «Коломбина» была не из их класса, и как ученица—ничем не выделялась из общего уровня. Самый спектакль 25 июня 1921 г. был не для «всей» школы и не для «случайной» публики, а закрытый; на нем присутствовали только ученики двух старших классов школы, их родители, преподаватели школы и особо приглашенные лица из театрального и педагогического мира. Все или, по крайней мере, значительное большинство присутствовавших знали, в чем было дело; кроме того, перед спектаклем Н. П. Ижевский сказал великолепное «вступительное слово», в котором с истинно художественным мастерством выяснил все, что надо было знать собравшимся.
Говорили после спектакля, что этот «эксперимент»—рискованный. Против этого я спорить не буду. Не всякому педагогу и не со всякими учениками можно устроить подобный эксперимент, но для таких участников и устроителей, какие были в данном случае, не «дерзнуть» — может быть, было бы даже грешно. Они «дерзнули»—и не раскаялись в этом.
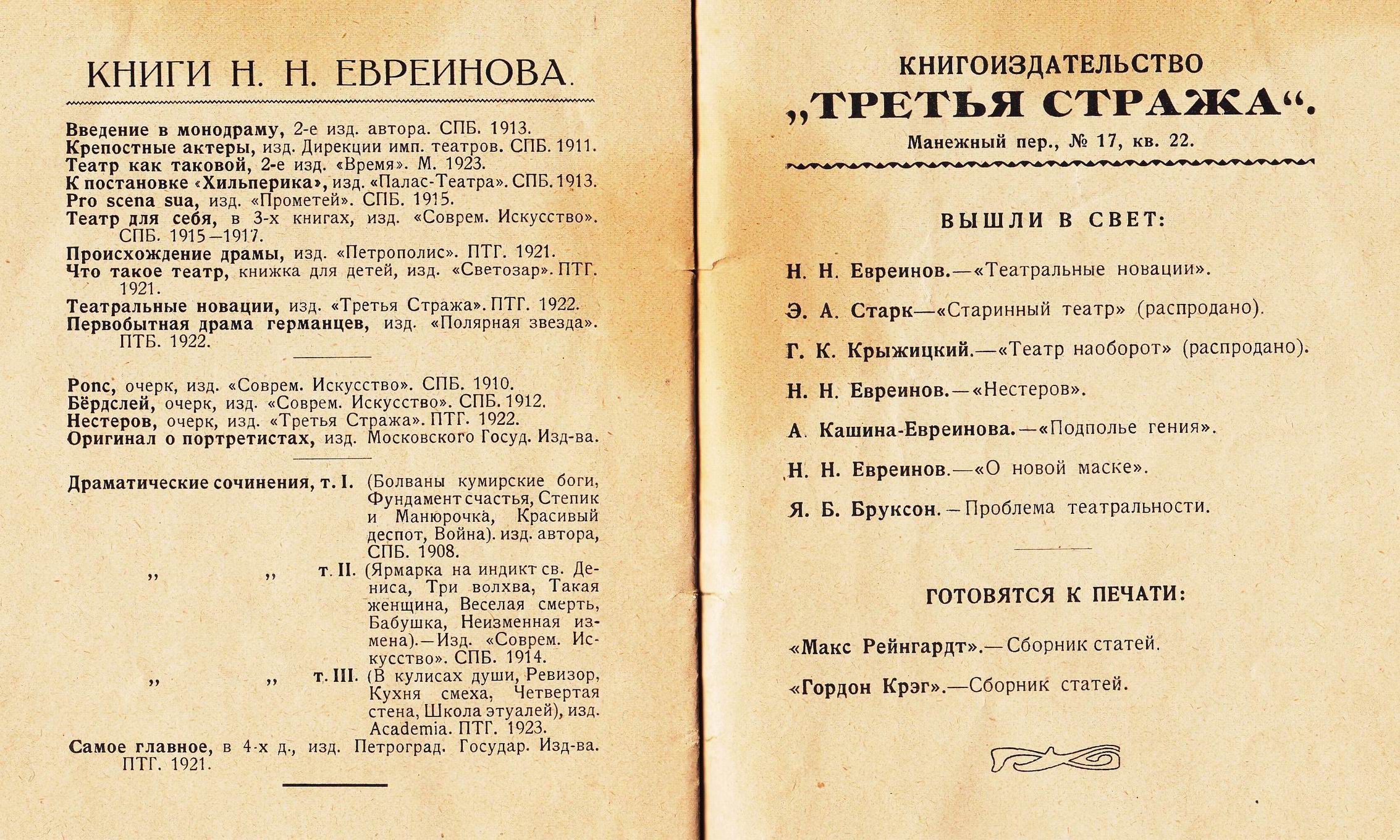
Добавить комментарий
Для отправки комментария вы должны авторизоваться.



































