Артур Макаров. Придурки
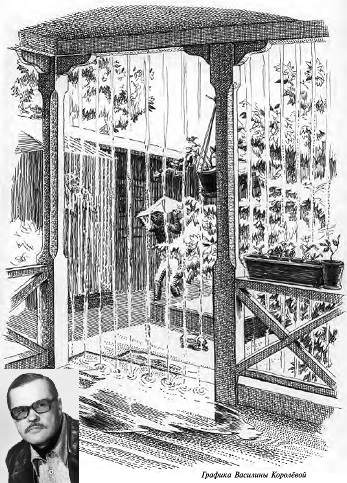 Артур Сергеевич Макаров родился в Ленинграде в 1931 году.
Артур Сергеевич Макаров родился в Ленинграде в 1931 году.
Детство провёл в посёлке Пески Коломенского района,
где в конце 80-х годов ХХ столетия жил и работал на даче
своих приёмных родителей кинорежиссёра С.А. Герасимова
и актрисы Т.Ф. Макаровой.
Окончил Литературный институт имени А.М. Горького.
Дебютировал в журнале “Новый мир” рассказом “Дома” (1966),
который был высоко оценён А.Твардовским.
Рассказ “Придурки” (1974) содержит узнаваемый коломенский мотив и
повествует о конфликте сохранивших в тяжёлую годину христианские
нравственные устои людей с представителями “хомо советикус”.
Умер писатель в 1995 году.
Текст, предложенный читателям, публикуется с любезного разрешения
вдовы Артура Сергеевича Людмилы Александровны Макаровой.
Редколлегия Альманаха
Осень удалась не в осень, и всё вокруг силилось если и не вернуть лето, то удержать нынешнюю тёплую и ласковую пору. Взгорки на припёке ярко зеленели, лист не хотел опадать, а там, где опал, казалось, вот-вот наново подадутся взбухать почки. Не знаю, радовался ли, подобно мне, погоде Калиныч, но шагал он против обыкновения молча, не отвлекая назойливыми поминаниями прошлых былей и небылей, как повелось всегда, при наших совместных походах. Мы прошли Овдокимову ниву – березняк, белеющий с обеих сторон дороги, поднявшись на бугор, миновали гарь и вышли к Юдиной ниве: тёмным зарослям ольшаника, осины и редких ёлок. На одной ниве некогда собирал урожай безвестный мне Овдоким, на другой, год от года меняя пот на зерно деда Калиныча, – кривой и упрямый Иуда. В который раз, задумавшись о том, как странно и, видимо, невозвратно были отданы лесу прежде культурные земли в центре страны, я не заметил, что мой спутник замедлил шаги, едва не ткнулся лицом в пахнущий хлевом ватник, и мы оба стали.
– Кто же это, а? – голос Калиныча, кроме интереса, выдавал волнение, и, посмотрев на влажный песок лесной дороги, я оторопел сам. Частые следки босых ног отпечатались на песке, уходили в сторону, куда направлялись мы, и память услужливо вытолкнула сведения об аукалках, листвянках, болотяницах и шишигах, накопленные за время жизни в этих краях.
Ну, а кто шёл? Тепло – теплом, да чем теплей день, тем студёней его утро, а земля до солнца и вовсе холодна… И часто ли встретишь кого босого в октябре?
– Утрешний след, – подтвердил Калиныч. – Кому бы только обувку беречь? Ну-ка, ну-ка… Быдто с палочкой идено? Глянь.
Рядом со следами, верно, попадались неглубокие ямки-точки, кое-где видневшиеся запятыми, если посошок приволакивали, прежде чем опереться.
– Не иначе как бабка-ведунья. – Мой спутник поднял крылья ушанки с кожаным верхом, и, неразвязанные, они придавали ему залихватский вид. – Не робко станет тебе такую встренуть?
Белым днём и с товарищем особенно не заробеешь, к тому же и его Петровна совсем не скрывала, что кое-что может сама.
– Я особо не в силах чего многого, – делилась она как-то, – но Дунькиной козе сделать могу, Сергеич. Когда и завтра ярочка не разродится – стало быть, Дунька устроила, кому ещё? Ну так и ейной животине не гулять, обопьётца, увидишь!
Поэтому и сказал, что на настоящую ведунью поглядеть интересно, и с места мы взялись, как в марш-броске, навёрстывать упущенное.
Через полчаса дорога выбежала на длинное поле, зажатое лесом, и в конце его обозначилось нечто на фоне жёлтой стерни.
Старуха шла с палочкой, и годы согнули её так, что, подойдя вплотную, я наблюдал лишь горб спины, обтянутый старой кофтой неопределённого цвета, линялую юбку и забрызганные песком бледные ножки под ней. Нас она не слышала.
– Воо-от кто! – ахнул Калиныч и, подскочив и взяв старую за локоть, размягчённо забубнил: – Дай я тебе помогу, Арсеньевна, куда же ты собралась одинёшенька?
– Ах, оставьте, пожалуйста, эту никчёмную деликатность!
Она строптиво отпрянула, и я увидел загорелое сморщенное лицо с красными язвами век.
– Это же я, Федя, – уговаривал Калиныч, – Федя Кожанов, милая моя Арсеньевна… Не признала?
– Федя… Фёдор Калинович, вы? А-а… Совсем не слышу, представьте! Видите ли, Петя в город уехал, а мне крайне необходимо попасть на почту… Ходит автобус от Хатькова, не знаете?
– Ходит, Арсеньевна, ходит, так тебе ещё пять вёрст идтить! Ты бы…
Арсеньевна встрепенулась, всмотрелась в меня незряче:
– Кто с вами, Фёдор Калиныч? Вы не один!
– Сосед это мой, москвич. Мы на озеро к рыбакам сладились, да проводим тебя теперь.
– Покорно благодарю, я в провожатых не нуждаюсь! Тем более в московских… Ступайте, ступайте, Фёдор Калиныч, прошу вас!
Пятилась, размахивала рукой с лёгкой палочкой в ней, и то ли солнечный рассвет так кривил её лицо, то ли я ошибся, завидев на нём явное выражение брезгливости.
С тем мы и ушли, и шли молча, пока не свернули на тропку и не миновали частый ельник.
– Откуда эта женщина? – спросил я, когда сели курить на тёплый мшистый бугор. – И слепая, и разговаривает… странно.
– Да не, – снял и подложил под себя шапку Калиныч, – не, ещё не совсем слепая, будто и видит, где темно, где белей… А откуда? Так я у ей учился и знаком хорошо, даже очень. Помнишь, усадьбу тебе указывали, как на Плешанов хутор идти?
– Помню, – вспомнил я неожиданную в лесу аллею столетних трухлявых берёз.
– Живали там баре, и последнего я застал, даже говаривал с им. Леликов ему фамилия была, а дочка евоная явилась будто не в себе, умом двинутая… Нет, – так и умная, и разговором хорошая, да смотри сам: мужиков ей не надо было, забав никаких, а взялась учить детей. При её такой силе-возможности! Построила школу, созвала ближних ребят, а после и тех, кто в округе жил, так для их нарошный дом срубила, где спать, а корми-или-и их! В общем, как щас внуки мои в этом живуть… Как его?
– В интернате.
– Точно. Только мой Коля за их питание туда масло носит, и картошку, и мясо даёт, а тех она сама питала-одевала. Понял теперь, в чём у ей дело было? Ну вот… Я её в возрасте застал, так при ей из прошлых учеников в помощниках уже состояли, кто к науке ловчей оказался… И вот эта, Настасья Арсеньевна как раз, а тогда – Настя. Собой видная такая была, румяная и чем мужику попользоваться имела, хе-хе-хе, но тоже в учительство ударилась. Я сам два года ходил, как раз грамоте научила, и бросил: батька взял себе пособлять. Ну, после революция началась, их, конечно, сам понимаешь, Леликовых тех… И я видел, как на телеге сидели отъезжавши… Не!
Калиныч отчего-то взликовал, долго не мог уняться и закашлялся. Но, отдышавшись, не потерял вспомянутого:
– Не… Ага! Их, значит, в отъезд отправлять и собрались все, а Леликов обошёл своё, поклонился дому, плачет. Жалко, видишь, ему было, что всё его такое доброе наше стало! Барин… Уж я к телеге пошёл, и дочь тама сидит, и старуха сама, а Васька-Красный и вспомни… «Братцы, – кричит, – братцы! Он ить наше трудовое увозит, неужели дадим?» Многие и не уразумели, про што орёт, раз тем одни узелки дали собрать, а это он про зубы бариновы…
– Про какие зубы? – не понял я тогда.
– Каки-ие? У-уу! У ево во рту четыре золотых было: ясные, блёские, самой-самой пробы золото подыскал. Понял? Ну вот… Тута молоток Васька нашёл и выколотку, выколотку наставит к зубу – щёлк! – на место зуба – дырка… Таким манером все четыре взял, с тем Аркадий Семёнович от нас и отбыл. Ох, смеялись же все, Сергеич, а я чуток и забыл тебе рассказать! Да-а.
– А почему его так звали – Красный?
– Это он привычку имел: в самую студёную пору ходить грудь голомя. Нагорит от морозу, а он трёт и смеётся: хорошо, мол! Понял?
– Понял. Так что же с Анастасией Арсеньевной стало?
– А чего? Замуж вышла, раз школу прикрыли, стали они хозяйствовать, как все, и дети после народились. Трое. И жили бы, Сергеич, как положено, кабы не то учение… Ну гляди – пришло время, стали в колхозы нас, а она мужику своему: не пойдём! Их сперва так да сяк, раз не кулаки, а после – что делать? – прибрали куда-то. Дети по людям жили, а годами и они вернись обратно. Мы сразу: пожалуйста в коллектив, примем с душой, не глядя, что такие. Ей, Арсеньевне, мужик говорит-просит: пойдём… А она – нет! Ну, тогда поимели снисхождение к детям и его одного убрали. Там и помер зато. Да-а… Ведь какая баба, Сергеич, – приехали раз активисты, крышу разобрали, совестят, что идти в колхоз, не то послезавтра приедем – по окна избу разберём… Не идёт! По окна разобрали, а они в баню жить… Землю у них запахали, а она с мальцами лопатой её обратно и своё содит! Чисто смучала всё начальство вконец… Тут ещё пока ладно, а дале старшому в армию надо – не пускает, и всё! Его, конечно, в тюрьму, два года отбыл, вернулся… другой раз в колхоз зовут их, и другой раз не идут. Всё порядком не упомню, а только война возьми и явись. Так она старшого первым днём без повестки за порог выпихнула, на прощанье погулять, как положено, не дала, во как!
– Вернулся он?
– Какое… Теперь смотри: в таких обстоятельствах ей льгота предоставлена за ево была, и приехали люди с хорошим к ней, с приветом и пензией. Она же их с порога – вон! Сын, мол, не вас, он родину защищал, а я за сынову кровь пользоваться не хочу… Так и уехали, а у ей уж в те поры и другой пошёл воевать.
– Тоже убили?
– Не. Будто она ему сказала: иди, но людей не стреляй. Это немцы, по её, – люди! Он в обозах был, в санитарах, в командах земляных… Вернулся, ага… Петя-поп.
– Почему – поп? Это она про него вспомнила сейчас?
– Ну. А почему… Ну сначала не трогали их после войны, и женился даже. Детей завёл… Уж я помню хорошо, как к ним прокурор заехал и начальник милиции сам. Говорят: «Как же вы так, без света, без радио, без клуба некультурно живёте, не годится это совсем! Идите в колхоз добром…» Тогда она и спросила: «Вы читать можете?» Им дивно стало, и будто над ними насмехается… «Можем, конечно», – говорят. Достала с-под образов газетку жёлтенькую, старую, – прочтите, – суёт. И там, значит, написано, вроде что в колхозы принудительно не собирать и прочее, а подпись – Ульянов. Понял? Ленин, значит… Во как умыла! Они уехали. Так вот всё жили покуда, лопатой свой надел копали, косили его, а жили бедно. Но пришёл другой закон, чтоб всем работать по местам, как положено… А Пётр – где? Где он работал? Себе одному? Не-е, шалишь! Его тогда взяли, и – сколько он? – шесть или восемь годов тама был… Ну, жена его не дура, натерпевшись, взяла детей и к родным подалась. Навовсе. Вот и живут щас они, Сергеич, вдвоём, мать с сыном, за свою придурость, живут – страхота поглядеть, я у них зимней охотой грелся – ночевал и такой обстановки жизни знать не хочу! Он в бороде, на образа крестится, а в дому – темнота, голость, поесть – картошка мятая да молоки… Тьфу! Пошли лучше, нам лошадь не подадут и сидеть время нет, верно?
Ещё звали его Колчаком, называли баптистом, чаще – Петя-поп, придурком – мало кто.
Их хозяйство стояло на полпути от большака до нашей деревни, и, проходя или проезжая, я видел иногда бородатого мужчину, реже видел согбенную его мать. Мне очень хотелось познакомиться с этой семьёй, но повода не находилось, а идти незваным казалось неловким.
От рыбачивших на лесных озёрах мужиков, от безрассудных шофёров, решавшихся пробраться к нам, и от разных людей я слышал, что Петя-поп на руку чист до удивления и не возьмёт ничего не только с застрявшей в ручье и оставленной на ночь машины, но даже из сети, даже если рыба гниёт, доведись хозяину не прийти поглядеть снасть день-другой.
Словом – придурок форменный.
А познакомились случайно… Уже в ноябре, но ещё не в стужу, а в мокрый снег, шёл я к себе от автобуса с тяжёлым рюкзаком и вымок изрядно. К тому же хотелось курить, и, завидев в придорожных кустах дымок, пошёл туда, не зная к кому. Подле небольшого костёрика стояла скотина: шесть овец, плотно сбившись в одну мохнатую груду, и небольшая чёрно-белая корова с короткими толстыми рожками. Овцы сразу повернули ко мне обманчиво-умные морды, а корова так и смотрела в огонь, и от него её глаза чудно сверкали. Кругом темнели мокрые деревья, таял снег на ещё не остывшей земле, и снег падал с неба…
– Вы идите к огню, – сказали близко. – И мешок под ель снимите… Здрасте.
Петя-поп неслышно оказался рядом, не прикрытая бородой кожа лица была красной, и светлые глаза выделялись особо. Я поздоровался и назвался.
– Знаю, знаю, и уж простите, а и наведаться к вам собирался не однажды, были намерения.
– А почему не пришли? Я был бы рад.
– Отчего уж – рады? Да так, если посудить, а я в тиши и одиночестве не думать не могу. Раньше, когда череп ломило, я травы заваривал, но бросил, поскольку понял, что это от раздумий непрестанных… Вы позволите ваших закурить? Мои кончились.
– Пожалуйста… Только они крепкие очень, это – кубинские, сигарный табак.
Овцы оробели, едва я приблизился к огню, а корова всё смотрела, вытянув шею, и вот теперь подошла, шумно вздохнула и ткнулась мне в плечо влажным кожаным носом.
– Смотрите, как она к вам! – удивился хозяин. – Так ты человека и признала, Тамара?
За ней приблизились овцы, а когда мы сели, животные стояли сзади вплотную и будто слушали нас.
– Сена этот год мало собрал, зато и пасу, пока снег не лёг…
– А зачем пасёте? Волков боитесь?
– Волки не явились ещё, рано. Это дальше… А свой выводок рядом местился, они соседей не тронут нипочём. Оттого пасу, что всё равно за мной ходить станут, как пойду куда, а там им нельзя питаться, не наша земля… Вы ведь против войны?
– Я? Ну… разумеется, что в войне хорошего… Разве вы – за?
– Какое! Я на них гляжу, на скотов своих. Думаю: не режь каждый год от нужды или жалости, так через два мне их и не прокормить ни за что. Как бы вот люди жили, не случись от начала войн, голодов и болезней разных? Ещё бы и полный век был каждому дан… Не прокормиться ведь, и один одному мешать станет. И ещё спросить хочу: за что артистам такая воля дана?
– Я не очень пойму, что вы имеете в виду… О какой воле говорите?
– О такой, что им позволено мысли высказывать запретные и суждения даже… Они будто не своё передают, я понимаю, но убедительность так и так остаётся, и неглупый человек задуматься может и задумывается. Пусть этот артист противника каждого изображает или заблуждающегося, но если его слово правдиво, то правда оттого тише не звучит… И получается, что возвещается истина через малых сих! Выходит, избраны они свыше, и им почёт особый положен от людей. Не думаете?
– Так, как вы, не задумывался… У вас, значит, радио есть?
– Сын заездом оставил коробочку маленькую, – признал он неохотно.
– Питание к ней редко найдёшь и дорого.
И вовсе спрятал лицо при неосторожном следующем вопросе.
– Ваши родные в Риге живут? Я там бывал. Хороший город…
– В Риге, в Риге… Правда, крепок ваш табачок, то ли яснеет голова, то ли кружит её, не разберу. Вы сами что – работаете?
Объяснил, как сумел. Он кивал, пока я говорил, когда кончил – бросил редкий прямой взгляд.
– Тяжкую ответственность взяли… Или – нет? Мне это далеко, могу недопонять, а только судить-осуждать не берусь. И вообще-то мы сами никого судить не вправе.
– Зачем так категорично… Чтобы нам неосудными жить?
Он усмехнулся, глядя на дымный конец сигареты.
– Вы сразу личную выгоду предусматриваете… Она не мешает, верно. Но я считаю, оттого судить не можем, что сами себя редко понимаем и то, что нам нужно и полезно. Иногда желаешь трепетно, а случись по-твоему – и понял, что желал пустого, и даже вредным тебе оно оборачивается. Ещё хорошо, если скоро твоё сбывается… А когда человек на пустую и вредную мечту долгие годы тратит? Придёт в конце жизни к плачевному результату, а сил на иное не осталось, и положенный срок вышел. Мýка!
Снег поплыл крупно и густо, лицо противно намокло, холодные потоки сползали за ворот. Его бороду смешно забило белым, окурок в толстых пальцах намок, и, спасая оставшееся, он часто и жадно затягивался.
– …и мучаем себя сами, много более, чем нас могут измучить другие. Размышляя, тянемся к познанию, познание те размышления усугубляет, тяжким гнётом гнетёт. И виной тому – досужное время! Не должен человек иметь много досуга, а должен, как определено ему, шесть дней работать вполне и лишь седьмой отдыхать, но отдыхать и веселиться в кругу семьи. Веселиться именно, а не мыслить, если создал, чем веселить душу и тело: детишек, еду и питьё.
Он взглянул на меня и заторопился, неправильно поняв, почему я ёжусь.
– Вы не согласны, вижу… Но смотрите, до чего нескромно возвысились мы над природой. Это мы считаем, что возвысились… Во всём, даже в самом естественном естестве! И зверь и птица для утехи и продолжения рода имеют в году короткое время, а остальное – потомство пестуют и кормятся, для него силы набираясь. Мы же на все дни растянули это время и готовы многие тому предаваться постоянно. Во-от как… Вы молока хотите?
– Нет, спасибо, мне идти пора…
– А то я вынесу, животов загнав, попейте… Не хвастая скажу, что молоко вкусное. Насчёт жирности и прочего не знаю, а вкус отменный, и кто пил – тоже хвалят.
– Мне идти, ждут меня. Вы заходите, тогда и поговорим… на досуге.
– Вот, вот. Должно, и зайду, как хозяйство отпустит. И урок один есть, я его кончить скоро обещал, а всё тяну. Ну, путь вам добрый, недалеко теперь осталось, дойдёте…
Я дошёл благополучно, а его слова насчёт урока запамятовал и лишь позже и случайно узнал, что дело было в том, что вязал он свитер мужику из соседней деревни. Он брался вязать и носки, и вязанки – так зовутся у нас рукавицы, – брался, чтобы заработать денег на курево и керосин.
Ещё соглашался рубить бани, и лес выбирал сам и тщательно, а уж потом хозяин на выбранное получал разрешение где положено. И «голландки» клал удачно, но все эти работы принимал на себя при крайней нужде и не для каждого.
Так повелось, что всякий раз, выезжая в Москву, я встречал его, направляясь к проезжей дороге, всякий раз и удивляясь, и радуясь обязательной встрече.
Встречаться встречались и говорили о многом, а к себе не пригласил ни разу, и это меня и удивляло, и обижало отчасти. Я же знал, что, случись увязнуть в снегу машине или колёсному трактору, и бездействующий тракторист шёл к нему ночевать, не встречая отказа, и Калиныч не раз ночевал, припозднившись с охоты. А меня не звал зайти, и попал я к ним случайно.
Тоже шёл налегке к автобусу, а из русла ручья – на дорогу, в самые ноги, выпрыгнули две лайки с толстыми хвостами. Ещё три выпрыгнули на дорогу подальше, метрах в тридцати, и тех я узнал сразу. Два первых волка скачками бросились прочь, и скачком я метнулся в сторону к торчащей из снега сушине, разом сломив её неизвестно зачем, потому что вся пятёрка след в след ушла за поворот, и я стоял один, по пояс в снегу, с сушиной в руках, а скула горела, наскользь задетая о шершавый ствол старой ели.
Потом, озираясь, брёл, сжимая нехитрое оружие; метров через двести волчий след потянулся с дороги влево, и тут я освободил руки, поздно сообразив, что и занимал их напрасно: хотели бы напасть, так уж напали бы, да про такое не слыхали в наших местах.
Петра Александровича встретил скоро, мы покурили, разговаривая, и, когда собрался идти дальше, он сказал нерешительно:
– Вы не зайдёте к нам лицо обмыть? Удивятся люди, что у вас лицо в крови, думать разное станут и говорить того хуже…
– Кровь? – Я не поведал ему о недавней встрече, но теперь, потрогав лицо, нащупал запёкшееся место. – Верно… Вы сразу и не сказали…
– Так и вы мне промолчали – откуда. Я и то не вдруг собрался вам предложить, мало ли… Так – зайдёте?
Сеней при избе не было – лишь приступки к площадке перед дверью, а за ней вошедшего встречали косовато сложенная печь и густой дух очень простого житья. За проёмом казёнки я увидел также грубо устроенную «голландку» посреди комнаты, но Пётр Александрович проём задёрнул занавеской, а мне шапкой смёл место на лавке у стола.
– Рукомойник вон, на стене, умойтесь и садитесь, я картошку достану, она горячая. Любите с молоком картошку? А то и с маргарином можно, есть сейчас у нас маргарин…
Смотрел он в сторону, выглядел против обыкновения смятенным, и я понял, что он стесняется неказистости жилья и боится, что я замечу эту стеснительность. И тогда я решил остаться подольше, прикинув, что к поезду успею и на попутном лесовозе.
Увидев появившуюся на столе ополовиненную бутылку коньяка, подивился молча, а он пояснил сразу:
– Москвичи с охотой ночевали прошлый год – оставили мне. Я от кашля пользовался, а сейчас выпьем.
Привычная эта бутылка выглядела здесь, как ёлочное украшение в ящике старых гвоздей, а подле присоединившегося скоро чугуна с картошкой – иначе, но тоже странно.
Ещё не успели выпить, как за занавеской зашаркали шаги, и к нам вышла Анастасия Арсеньевна.
– Кто тут у нас, Петя?
Я встал, поздоровавшись, назвался, извинился, что обеспокоил.
– Какое беспокойство, любезный мой? Это вам должны быть мы признательны, что не погнушались нами, а Петя уж так беседами вашими доволен… Сами видите, какая у него доля!
Вглядываясь в меня незряче, ещё благодарила, затем звенящим от негодования голосом поведала, как таскали у них осенью картошку разные люди, как недавно на тракторе увезли последний стог сена и нечем теперь кормить скотину.
– …с нами всякий волен поступать по желанию, раз мы изгои! Знают, что не будет им за то суда человеческого, а про Божий суд им неведомо, несчастным…
– Ступайте, ступайте, мама, – морщась, брал её под руки Пётр Александрович. – Ну, что это вы? Вам лежать надо, и холодно здесь.
Уложил, вернулся и вновь перекрестился на образа, садясь к столу.
– Извините нас… Ну, на доброе ваше здоровье!
– И вам всего хорошего.
Выждав несколько, я спросил про то, о чём она говорила; он ответил не сразу, обмакивая картошку в соль.
– Забывается мамаша или считает, как ей хочется… Гряды наши кабаны рыли, ночами ходили. Я взялся городьбу городить, так гвоздей нет, а лыком колья вязавши, долго прозабавился. Нынче не пороются, отгородились.
– А сено?
– Сено? Сено увезли, точно. Клинские мужики увезли, ходил я к ним…
– И что они?
– А что? Говорят: иди по-хорошему, раз рёбра целые, а когда хочешь, и жаловаться иди. Знают, что не пойду.
– Но отчего, Пётр Александрович? Вы единоличник, хорошо, но паспорт у вас гражданина, и воевали вы как гражданин… Закон обязан вас охранять…
Светлые его глаза взглянули сквозь меня, и впервые увиделось мне в них нечто безумное, хотя слова последовали здравые вполне.
– Скотину жалко мне, верно. Но и себя, Сергеич, жалко больше. Легко ли своей волей под нож идти? Пускай уж, выкрутимся… Берите, берите картошку, она будто удалась, я люблю её есть.
Чёрно-белый кот шмякнулся с печки, безбоязненно подойдя, потёрся о мои ноги, заурчал.
– Кыш, нахальный, нет тебе у нас ничего! Обленел совсем, а молодым чего только не носил в дом… Вальдшнепов, тетёр, даже зайцев волочил, поверьте. Я как услышу, что тяжёлое на избу несёт, так знаю – зайца. Он и не сердился – если отберу… Коты только молодые охотятся, а как заматереют, так заленятся… Я налью?
То ли давно не ел я с картошкой молока, то ли и верно, оно было отменным, но хвалил искренно.
– Хорошее, хорошее, говаривал вам… Вот только вопрос у меня: что такое закон и правильно ли, что он есть?
Слушая мою бормотню, кивал согласно, выслушав, усмехнулся.
– И всё-то неясно мне… До шестьдесят первого – так, кажется? – был человек всё же, а вышел новый закон – и стал я преступник, жизни не меняя. Сказали, что тунеядец, раз нигде не работаю, взяли от семьи, осудили… Начальник лагерный – опытный и умный мужик был, он каждого заключённого вглубь видел, и такие, кто иной раз другой статьёй прикрывались, ему враз заметны становились. Да-а… Он мне прямо говорил: этот закон не против тебя придуман, а ты за что попал – сам знаешь, и мне тебя жаль. Жаль, говорит, потому, что той статьёй осуждённые на волю выйдут, а ты ещё посидишь – подумаешь. И вышло по его…
– Как это, Пётр Александрович?
– А так, что водили меня из лагеря каждые четыре месяца в местный совет. Приведут, спросят так: пойдёшь куда на работу? Я скажу – нет, мне дома работы не унять… Меня и отведут обратно, до другого раза. Мне, видите ли, четыре года судом определили, а был я там восемь. Так у них получилось для меня… Всё бы ничего, жаль, жена не дождалась – уехала, дочку с сыном забрав. Вы что не пьёте?
– Я пью…
– И хорошо. Мужик я тёмный, Сергеич, но гордыню свою гоню и гнету посильно. Матушка меня в юности наставляла: заповеди Божьи чти, трудись прилежно, помни, что ты русский человек, гордыню смиряй… После уж ничего не говорила, разве помолимся вместе. Она скоро надо мной возвысится, недолго ей бедовать, а мне здесь повек оставаться. Про эту землю мой прадед думал, дед вполне денег насобирал без малости, а отец купил. Они за неё жизни отдали, и мне оставить всё это никак нельзя. Существование наше почти у предела невозможного, сами видите, но посещает меня мысль, что судьба моя для всего человечества что-то значит. Отчего бы такая гордость и значит ли, как считаете?
И я сказал, что, по-моему, – значит, а больше не смог сказать ничего.
Ко мне он пришёл неожиданно. То есть я и думал о нём и надеялся, что зайдёт, но как раз приехали из Москвы двое охотников, и я водил их лесом. А в этот день вернулись, и жена сказала, что у нас гость и поджидает давно.
Сложилось всё неудачно. Он не предвидел сборища, московские мои приятели, наслышанные о нём, глядели ему в рот, с готовым благоговением заблудших людей, ждали чуда от праведника, изречённой мудрости. Пётр Александрович стеснялся, да ещё принесла нелёгкая Калиныча, а тот всё про жизнь и знал и понимал досконально. Старшиной он был некогда в армии и по природе своей был старшина, на меня навалиться не мог, гостей ещё не раскусил, кто почём, а зашедший ненароком придурок случился как раз.
– …такую жизнь ведёшь при наших законах на благо человека и государства всего социализма! Тебе взять себя в руки и определиться, как мои сыновья, годы твои не велики ещё, и стал бы похож на людей, а они тебя простят, если будешь работать и себя соблюдать. Ты об этом, что я считаю, как думаешь?
– Как прикажете…
– Вот за то уважаю. А не, – ты ещё пойми, что я тебе годами отец и видал всё и знаю, а мать твоя мужика своего сгубила и тебя наставила дуром, и при ейной юбке с седой бородой жить смех один. Мы сейчас полное развитие имеем, баба и та при старости лет пенсию может получать, а тебе околевать одному. Сын пишет?
– Случается вроде.
– Детей не позорь! Он ещё с тебя спросит, а я научу, как увижу приехавши, чтоб всю бытность твою разрушил, как в силу войдёт…
Уняли Калиныча не скоро, когда время стало позднее и подступила к старику сонливость. Но и сами устали, и с гостем разговора никакого не состоялось. Помню лишь, как спросил его москвич:
– Не трогают вас сейчас?
– Молчат, – пожал плечами Пётр Александрович.
– И то хорошо, может быть, и забыли.
– Э-э, нет, молчание оно хуже тревоги… Ночью спать не даёт.
Утром поднялся он по-тёмному, в сенях вынул из заплечного мешка флягу Тамариного молока и ссыпал на пол картошку.
– Понравилась вам моя, вот и поешьте с молоком. Этот год картошки хорошо собрал, а не запомнил – когда сажал и как. Надо бы записать… Я вот хозяин, – он рассмеялся, – а про землю и сельское хозяйство ничего-то не знаю!
Тогда мне показалось, что он прикидывается, и лишь позже, встречаясь ещё, я понял, что так оно и есть. И верно: с отцом довелось ему жить ребёнком и немного, поскольку тот сначала сидел вместе с матерью, а недолго после побыв при семье, вновь был взят и там умер. В молодые годы Пётр Александрович больше ждал разных наездов да перелопачивал запаханную колхозом свою землю, нежели занимался ею, затем находился на фронте, затем познакомился впервые с судом, законом и неволей, пусть и ненадолго поначалу. А в период между первой и второй, уже долгой, отсидкой заняла все помыслы образовавшаяся семья, но про это время он почти ничего не рассказывал.
Не рассказывал, но часто и страстно прорывались у него мысли и слова об отцовстве, о своём отце поминал не иначе как с влажными глазами и считал, что Отечество наше потому и зовётся Отечеством, что в нём земля отца, его начало и главенствующая его воля составляют или должны составлять суть сыновней жизни.
Однажды едва не обидел его изрядно.
В тот раз торопился очень, ибо задержался в Москве слишком долго и к месту на дороге, откуда до дома оставалось лишь двадцать километров, приспел четырнадцатого апреля в девять утра.
А этим днём как раз явилась Пасха, везде её праздновали, и в нашей маленькой деревеньке изготовились давно. И хотя жильцов в ней осталось по пальцам счесть и были они соседями, но, истово расцеловавшись с утра, начнут пить и ходить один к другому радостные, да в полдень уже пьяные, и тогда кто знает, что упомнят мне из непременных обид, а в доме моём одна женщина и ласковые охотничьи собаки.
Ещё надо было благополучно миновать большую деревню Заборье, да не сошлось по-моему: выбежал из избы лесник Иван Степанович, на ходу с удовольствием плача, коря, что я погнушался да затаил какое-то зло, раз иду мимо в такой праздник, и пришлось его утешать, утешение это, ещё спустя час, отыгрывалось торопливо сработанной самогонкой, и к Лихуше, где жил Пётр Александрович, я подошёл не в духе.
Да и какая Лихуша, раз одна его изба и осталась?
Над ней распахнулось большое синее небо, стояла изба в краю просторного поля у обширного леса, и ото всего этого казалась особенно маленькой и жалобной.
А яркий день набух весной, булькали на ближних мхах тетерева, ошалелые селезни посвистывали крыльями, выискивая уток на лесных отмочинах, и рядом со всем этим было особенно муторно от выпитого, и гнул к раскисшей дороге небрежно уложенный рюкзак.
И пошёл я стороной от избы.
Пётр Александрович вышел враспояску под густые, никогда не резанные яблони, остановился, глядя на меня, и пришлось сделать вид, что обходил грязь, хотел войти в калитку с другой стороны изгороди. Помогая снять рюкзак, не смотрел в глаза, я понял, что он знает, как мне хотелось пройти не заходя, и раскаяние позволило вполне искренне поздравить:
– С праздником вас, Пётр Александрович!
– И вас, и вас, Сергеич… Заходите, как раз вы, да.
– Как матушка ваша, здорова?
– А нет, плоха нынче. Заходите…
Сидел у него ещё человек, как оказалось – один из двух охотников, нашедших пристанище здесь. Стояла на столе бутылка разведённого спирта, её окружали припасы, и мы сразу начали.
Я тогда и заметил, что выпивает он с удовольствием, а больше почему-то огорчила беззащитная жалость, с которой набрасывался после выпитого на роскошные московские закуски. У меня был и в гостях и на людях и держался изо всех сил, а тут сидел дома, иное получалось дело, и хватал, суя в бороду, и колбасу и сыр, едва не с вожделенным постаныванием накидывался на селёдку. Я старался не наблюдать его, осуждал себя за испытываемую досаду, и при всём том он стал мне виден ближе и лучше, и многое в его жизни стало видно яснее.
Позже, когда постоялец его, блаженно помаргивая, отвалился у окна в дрёму, мы начали говорить, но в соседней комнате зашевелилась, охая, Анастасия Арсеньевна, и тогда ушли на двор. Он, спохватившись, выгнал скотину, овцы сперва разбежались, но скоро собрались к нам.
– Похоже, что заведётся у меня живьё, – кивнул на них. – Сколько лет никак не велись, а тут разом и ягнились, и вот сегодня коровка телилась. На Пасху! Не знаете – к добру это или к худу?
– Не знаю. Но думаю, что к добру.
– И я так считаю. Не-ет, Сергеич, можно, очень даже можно хорошо жить на земле своим хозяйством. И чтобы просто жить, не в роскошь, то не слишком придётся трудов положить, и отдыхать время хватит. Особенно если ты таков, что скотина у тебя ведётся. А она не у каждого ведётся, Сергеич. Почему – не знаю, а не у каждого… Я ведь ещё без лошади, лопатой землю мучаю, а кабы лошадь! Вот скоро начну ковырять землицу, близится самое…
Я поглядел на обширное поле за частоколом.
– Зачем же лопатой… Начнут то поле пахать, так вам за бутылку любой тракторист надел поднимет. Ещё спасибо скажет!
– Он скажет, – согласился Пётр Александрович. – Только мне этого нельзя, Сергеич. Когда б машина его была, тогда – да, так она не его, государственная… Ничего-оо, управимся. Верите, даже жду, как начать придётся! Вам, кажется, понять трудно.
– Нет, я понимаю. Иногда сам возле начала работы хожу, знаю, что ещё не время, но уже скоро всё подготовится, подойдёт…
– Вот-вот, правильно. Я как сына просил, чтобы на земле остался! Живи, говорю, где хочешь, только в России, и кем хочешь в колхозе или совхозе, да на земле… Нет – пошёл в училище механическое. Пойти пошёл, а его с прошлого года к тем машинам на ремонт поставили, что в мелиративной команде работают! Я ему и сказал: что же, Ваня, значит, пришёл ты болота осушать, на землю пришёл, да с другой стороны… И ты на свой заработок хорошую семью не прокормишь, самому лишь бы, да кое-как, а на земле прокормил бы… Да. Вот и города обширнейшие создают, и все туда уходят, а основа жизни тут остаётся. Как же дальше будет?
– Не знаю…
– Кто-то должен знать. Вы дорогой шли, так раньше кругом хутора стояли, люди жили, и жили крепко. Это ведь за малое время обосновались, когда на хутора стали рекомендовать! Всё успели: и лес свалить да сжечь, пни выковырять, землю под пашню привести… И разжились. Думали, что стали хозяева, а стали они кулаки, хотя тот путь жизни им самой властью был обозначен. Тут моё понимание кончается, Сергеич, тут какую-то иную суть предусматривали, а зачем и почему – мне понять не дано. Не просто всё отобрать – отобрали, а ещё самих извели… Таинственно это! Не находите?
– Нахожу… Матушка ваша не встаёт?
– Она полную ночь при корове была, устала сильно. Ещё печалуется, что в такой день службу послушать хочется… Ей уж не слушать – ближняя церковь за девяносто вёрст. И вот опять: религия разрешена нам, а церквей не заводят совсем, и даже книгу божественную не купить нигде. И ведь не плохому учат в них. – Он помолчал и сказал тише, иным голосом: – Возлюби ближнего своего… А, Сергеич?
– Да… Но и церковь стала иной. И священники иными стали, более мирскими, современными, что ли… Я одного знавал под Коломной: дом, машина, на моторной лодке по реке гонял.
– Не имеет значения! – живо возразил он. – Их и жизнь обязывает страхолюдами не быть, и даже если жизненное поведение их отвлекает от размышлений о сути всего, – не имеет значения, хоть и жалко, конечно. Служат они великому и великие слова возвещают, вот что важно. Есть слова, что одним звучанием своим многое несут, хотя и просты вовсе. Истина, Любовь, Долг, Верность, Отечество… Ничто не проходит бесследно, это я понял. И многие поняли, раз возвещают: человек человеку – друг, товарищ и брат. Но лучше – возлюби ближнего своего! Да-а… Вы что? Уходить?
Я объяснил, почему тороплюсь, и он согласился сразу.
– Ступайте… И мне понять бы раньше, ну да ладно. Охота начинается, так заходите, я место нашёл, где мошники играть собираются. Вам они интересны?
– Очень!
Одни глухари интересовали меня этой весной, однако весна сломалась в самом начале, снега в лесу оставалось по пояс, и такого, что не подобраться к глухарю ни за что. Знакомые тока опостылели после неудач, я решил поискать новые, вспомнил о предложении Петра Александровича, а вспомнив, стал собираться к нему. Только он меня опередил.
– К вам баптист заявился, – подошёл ко мне в магазине мой сосед Кошелёк, он же Дубок, он же Бармалей. – Я на мотоцикл садился, гляжу, к вам тащится. Ну и есть придурок: я прошу – стой, покурить дам; а он воротился, говорит: «От каталки твоей пахнет худо». С утра не пришлось хватить ничего, раз вчера всё выпил, не то бы врезал ему…
Был мой сосед ростом немногим выше мотоцикла, любил показаться боевитым и страдал оттого много. Да в этот раз помог: за сто граммов довёз к дому быстро, по его выражению, – ментом!
Пётр Александрович остался ночевать, но вечернюю беседу не растягивал – чувствовал себя неважно, а назавтра сладились не рано отправиться к нему, чтобы мне поохотиться в тех местах.
Утром, пока растапливалась плита на дворе, я взялся за эспандер и тут заметил, что моя гимнастика смутила его. Он явно не ждал подобного легкомыслия, этакой несолидной забавы, я ронял себя в его глазах, и он, видимо, огорчался тому, даже страдал.
– Вам лучше топор взять, да к дровам, Сергеич, вот и было бы и ваше нужное, и дело хорошее. Или с лопатой поработать… А это пустое.
– Отчего же? Размяться с утра хорошо, и для работ сил прибавится.
– Сила как раз от работы, и сила полезная. А это баловство, можно сказать, глупое… Уж простите.
Я и сам чувствовал себя зачастую неловко, упражняясь на виду у трудившихся людей, объяснял себе, как неверно испытывать подобное, раз сделал свою работу, но его слова опять и задели, и испортили удовольствие и нужность гимнастики. В отместку предложил ему опробовать снаряд: непривычный к подобным движениям, он не смог с ним справиться, и я в дешёвом превосходстве нашёл мимолётное утешение.
После завтрака, ещё молча, вышли на дорогу к Лихуше.
Постепенно он оттаял, указывая места бывших жилищ, рассказывал, кто чем занимался, кроме земледелия, и что возил в город.
– Возить по этим дорогам! – обмолвился я, обходя рытвины. – Как они колёс напасались…
– Дороги тогда были, Сергеич, – катышем катись, и было их много больше… А вот усадьба – знаете? – как раз матушка здесь училась и учительствовала помаленьку.
– Она всё болеет? Вы не сказали, что с ней, я бы лекарств захватил…
– Лекарства без пользы. Она, видите, похужала иначе, хоть и годы её за восьмой десяток. Душой плоха стала, ослабла. В правильности жизни не сомневается, то есть не жизни, а поступков своих, – поправился он, – но всё размышляет, вольна ли была отца к такому концу приводить и прочее. Будто от неё зависело что… А и зависело, Сергеич! – сказал удивлённо. – Я ведь сам на неё больше, чем на родителя, глядел. И по времени общения и по сути самой… Смотрите, как, а?
И опять замолчал надолго.
Жил я у них несколько дней. Спали мы не в избе, а на хлеву, на сене, при ночных морозах надев валенки и укрывшись овчинным накидом. В первое утро Пётр Александрович сводил меня на ток, но, не зная охоты, очень мешал, не дал убить двух глухарей, подшумев их в решающие моменты. Я ходил потом один, днём спал, готовясь к тяге вальдшнепов, а их было множество, хотя тянули неважно из-за холодов.
И беседовали много, и много услышал я о жизни края, в каком жил, меньше, но полнее – от Анастасии Арсеньевны, больше и несвязней – от него. От этих бесед, от общения с этими людьми и решил уйти вскоре, хотя планировал задержаться долее.
Их рассказы томили меня. Утром, уходя на охоту, я уже не попадал в искомое одиночество, в отдалённую от многого тишину. Вокруг пробуждались в кустарниках хутора и деревни, сквозь чащобу молодого леса ломились дороги, волновались хлеба на заболоченных луговинах. И я нет-нет, но думал и думал о том, как же случилось, что столько крови, ненависти и слёз дали неумолимо выжать из себя люди во имя того, чтобы земля, за которую уплатилось столь жестокой ценой, заросла хламными породами деревьев, затянулась ржавой водой. Как явилось, что в исконно русских краях удачливое воровство ныне становится много выше трудолюбия, агрессивное хамство возвысилось до нормы поведения, таимая прежде жестокость стала обыденной. Как? И с трудом нажитая мной скорлупа, сплав прагматизма, привычной способности не замечать очевидного и укоренившейся намеренной глухоты, натягиваемая с каждым пробуждением для общения с себе подобными, отвалилась, будто короста, а я неожиданно осознавал, что и вижу, и слышу, и ощущаю, как иной и почти нормальный человек, и это было мучительно.
И ещё было страшно.
В эти минуты я боялся не чего-то и не кого-то, а себя, возникающей во мне решимости жить не по велению устоявшегося бытия, насилующего моё покорно поддающееся сознание, я боялся именно сознания своего, диктующего стать иным и жить иначе. И этот унизительный страх рождал смятение и гнев, и не было более мне покоя там, куда шёл искать его.
Последний вечер пришёл дождём, поначалу я обрадовался, что он пусть и холоден, да мелок, и вальдшнепы потянут лучше. Но дождь усилился, сёк сильней и сильней, и идти домой было бы глупо под ним.
Решив ночевать у них и в эту ночь, возвращался под дождём краем леса, не разобрав в сумерках, что за тёмное медленно движется неподалёку, остановился, изготовил ружьё.
Пётр Александрович шёл от неблизкой к жилью баньки, держа шапку в руке, помахивая ею в размер несвязным словам. А под молодой сосёнкой привстал, поймав ртом длинную хвою, сильно дёрнул ветку, обдав себя капелью.
Я обождал, пока стих, удаляясь, его рыдающий смех, невкусно покурил в сырости, прежде чем явиться.
В хлеву, где спали, пришлось сгрести сенишко, раз сыпало и сыпало в прорехи крыши, и легли в избе: я – на печи, Пётр Александрович – на лавке у стола.
На новом месте засыпалось не очень, тяжёлый воздух туго шёл в лёгкие, и забылся я поздно.
– Петенька, – позвала старуха среди ночи отчётливо, я проснулся, и он сразу встал, будто не спал, и подошёл к ней. – Тяжко мне что-то, Петя, прочти истинное, пожалуйста.
Шаркнула о коробок спичка, вспыхнул и притух, но вот уже стал постоянным слабый свет. Зашелестели страницы, унимая хриплое ночное дыхание, он медлил, откашлявшись, начал читать.
Простые и значительные слова древней книги совсем отогнали мой сон, и я тоже слушал, думая о многом и о том, что никак не вязалось со звучащими в тёмных стенах заповедями и наставлениями. Думал о том, что совершал неправильно, и о том, что неправильно и неправедно ещё совершу, о женщинах, каких любил, и о той, что люблю, о намеченных убийствах живого, о том, как страстно хочу убить и вскоре убью обязательно. Я жалел себя и других, но себя неизмеримо больше, умилялся тому, какой бываю хороший, благостно горевал, что мне пока не везёт, и уверялся всё больше, что должно повезти обязательно, должно всё измениться и я буду жить с теми, кого люблю, и так, как мне этого давно хочется. А все вокруг поймут, какой я, и будут уважать и любить меня тоже… И ещё и ещё желал всего этого живо и страстно, уверяясь всё более в счастливом исходе желаемого, зная, что никогда и ничего сбыться не может.
Пётр Александрович всё читал, и слова, произносимые им, опять воспринимались мною, я лежал и слушал, думая теперь про всё, что он читал.
– …ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете…
– Петя, подожди… Петя, простишь ли ты меня?
– Зачем вы об этом, мамаша? Я вами доволен, видите, что почитаю, а помнить и почитать буду, покуда жив… Лежите спокойно.
– Ах, сыночек, сыночек!
– Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даёте десятину с мяты, аниса и тмина и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать и того не оставлять…
В голосе его исчезла хрипота, он дышал свободно и чисто, и выговаривал чисто и свободно, словно в яркий полдень на весеннем настое.
– Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри оне полны хищения и неправды…
Я ушёл вскоре после того, как погас светильник и рядом заснули. Придя к своему дому, выпустил собак и долго сидел с ними, радуясь, что они меня любят и всегда ждут меня.
А через несколько дней уехал в город, где всё тяжелей и тяжелей находиться, спать, думать и работать, но без которого никак не обойтись, раз так устроил себе житьё, как всё нескладно устраиваем мы себе. И в городе часто думал о двух людях, живущих среди России, особенно о старой женщине, впервые увиденной мною на осенней дороге в хмуром лесу.
Я дивился величию её натуры, стойкости духа и сохранённой до предела цельности. Задумываясь день ото дня, уместна ли в наше время небезопасная способность иметь принципы, я с горечью понимаю, насколько несравнима моя нравственная основа с той, какую имеет она, скорблю о несовершенстве своей, но в самые тяжкие минуты жизни вспоминаю опять тёмные строения на пространстве, окаймлённом лесом, связанный лыком частокол вокруг них, ласковую ручную скотину, трудовой запах застенчивой и доброй бедности, и мне становится легче и хочется увидеть всё это снова.
Перепечатано из:
“Коломенский альманах” Литературный ежегодник, выпуск 15, 2011.
Понравился стиль. И стилизация.
Автор: Никонова Нина Сергеевна | слов 7123 | метки: Деревня, единоличник, картошка, Коллективизация, колхоз, корова, лес, молоко, овцы, Пасха, размышления, сено, судьбы, хлев
Добавить комментарий
Для отправки комментария вы должны авторизоваться.




































