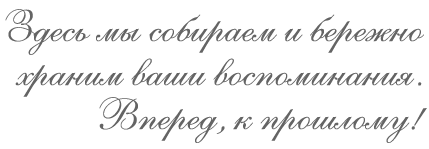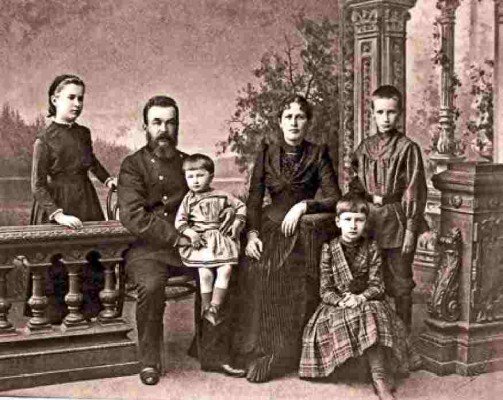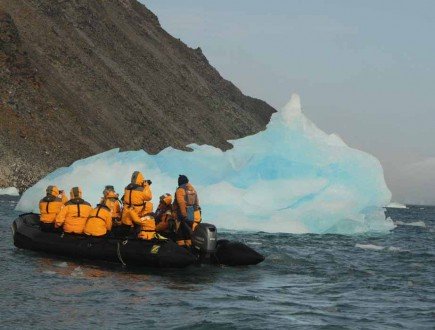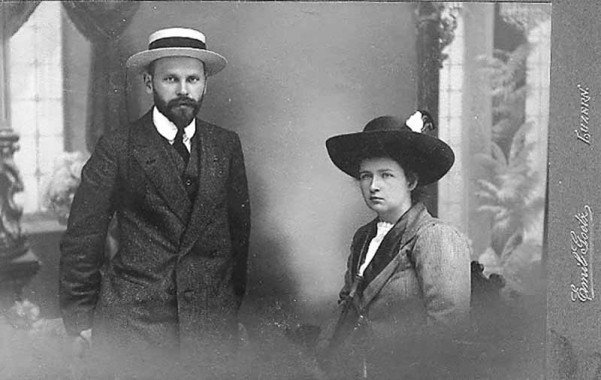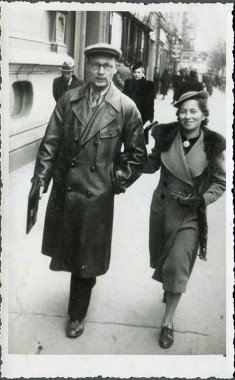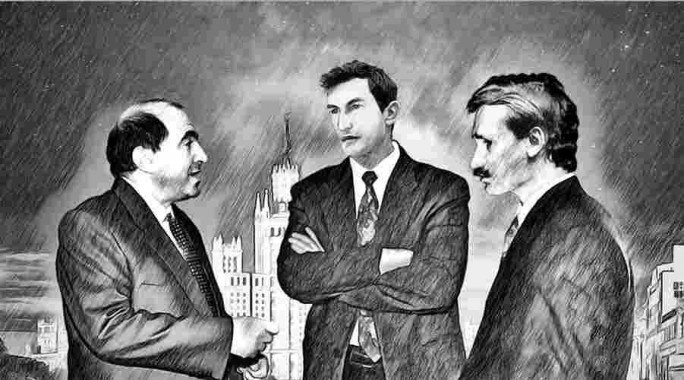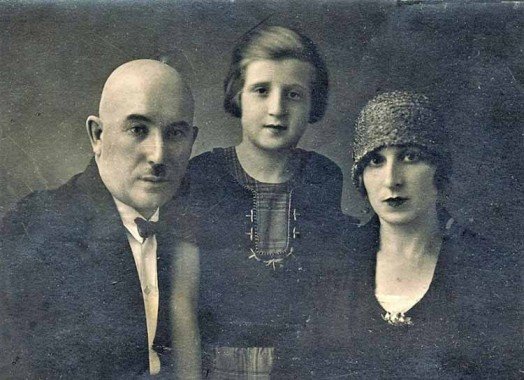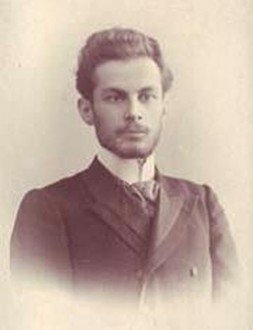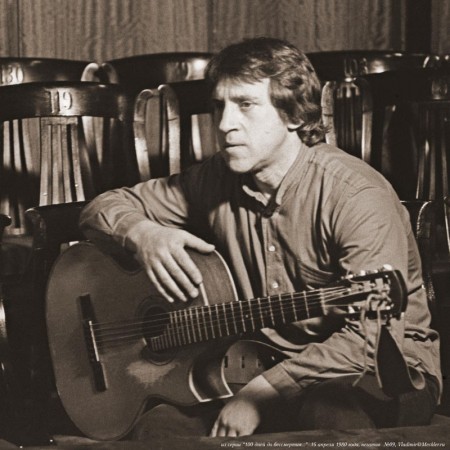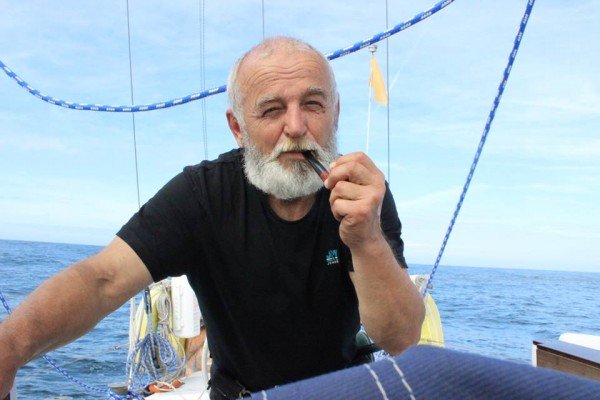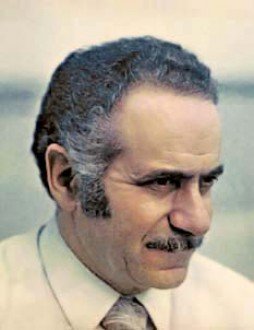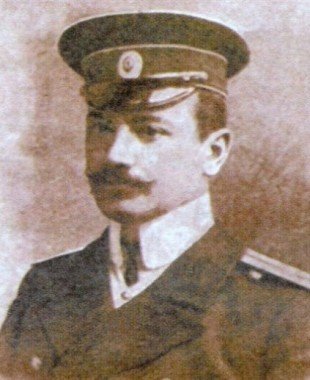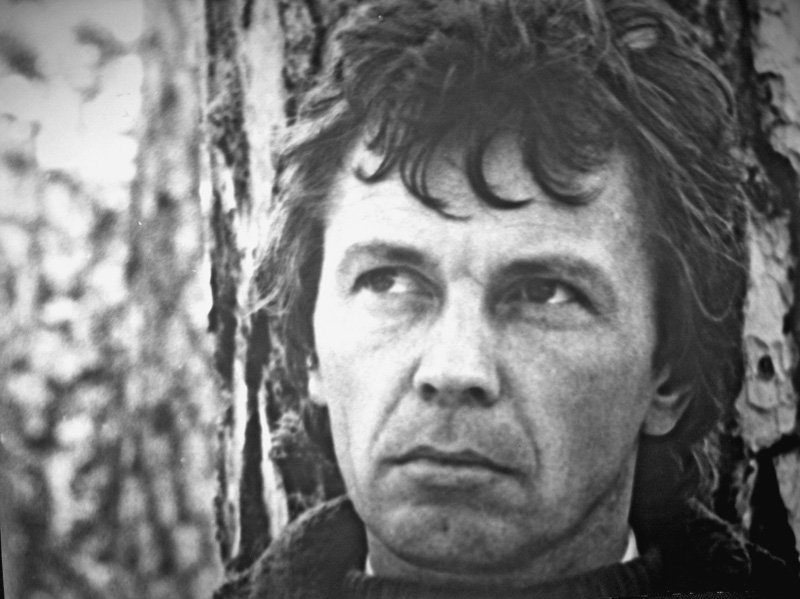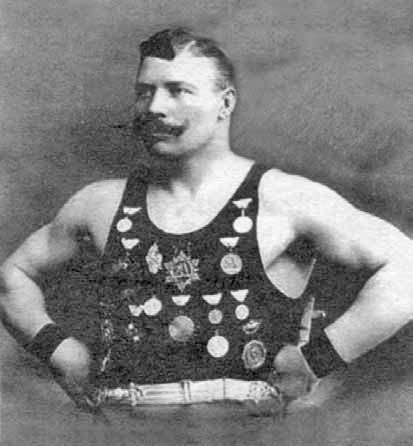Кинотеатр «Спартак»
Мы вышли все на свет из кинозала,
но нечто нас в час сумерек зовёт
назад в «Спартак», в чьей плюшевой утробе
приятнее, чем вечером в Европе.
Там снимки звёзд, там главная — брюнет,
там две картины, очередь на обе.
И лишнего билета нет.
Иосиф Бродский
Кинотеатр «Спартак» был нашим третьим домом. Ученики школы ходили на каждый новый фильм, и поскольку фильмы менялись редко, то на некоторые из них ходили по два-три раза и более. Особенно запомнились так называемые трофейные фильмы — картины, вывезенные из побеждённой Германии. В основном они были голливудского производства.
Игорь Ефимов написал в своей книге «Светляки»: «Всё послевоенное поколение в России было воспитано не на «Молодой гвардии», а на «Острове страданий», «Таинственном беглеце», «Королевских пиратах», «Железной маске», «Робин Гуде». Эролл Флинн, Джанетта Макдональд, Эдди Нельсон, Дина Дурбин заполняли наши сны. Неудивительно, что многие из нас тридцать лет спустя почувствовали себя в Америке, как в родном доме».
Что касается меня, то я лучше всего запомнил многосерийный «Тарзан». Остались в памяти фильмы «Судьба солдата в Америке» (это, конечно, изменённое название), «Сети шпионажа», «Большой вальс», «Сестра его дворецкого», «Мост Ватерлоо», «Индийская гробница», «Багдадский вор». И никогда не забыть «Девушку моей мечты». Этот фильм мы ходили смотреть в разные кинотеатры, надеясь увидеть, как героиня фильма вылезает голой из бочки. Был слух, что в «Спартаке» этот кадр вырезали, поскольку кинотеатр посещают много школьников, а вот в других кинотеатрах фильм показывают полностью. Но и там нам не удалось увидеть обнажённую героиню. Вместе с тем, находились ребята, которые клялись, что своими глазами видели в кино сей волнующий эпизод.
И что удивительно, чужие фильмы были близкими и понятными, а большинство советских — далекими и чуждыми. Например, «Кубанские казаки». Какой-то весёлый карнавал, а не наша жизнь. Изобилие продуктов в голодное время. Круглолицые румяные физиономии жителей прикубанских степей. Правда, была мысль — может быть, так и живут люди на юге, это на севере народ бедствует.
Лет через десять, когда я учился в Ленинградском горном институте, студент Толя Матвиенко, приехавший из Майкопа, рассказывал нам о бедности в его благодатном крае и том, что его земляки предполагали, насмотревшись советских кинофильмов, как хорошо, наверное, живут люди на севере. После окончания института Толя уехал ещё дальше на север — в Ухту. Видимо, детская мысль о хорошей жизни на севере всё же жила в нём. Но на севере он долго не задержался. Не выдержав со своей чуткой душой всех мерзостей жизни, он покончил собой, выбросившись из окна пьяного общежития, в котором ему, как молодому специалисту, была предоставлена койка…
Посещение кино требовало денег, которых у большинства из нас, конечно, не было. Мысль попросить денег у матери даже не приходила в голову. Но имелось несколько способов бесплатного проникновения в кинотеатр.
Способ номер один: идти, не останавливаясь, мимо билетёрши и на ходу с душевной теплотой поздороваться с ней, как с близкой родственницей; пока билетёрша вспоминает, кто бы это мог быть, растворяешься в толпе зрителей.
Способ номер два: прошмыгнуть за чьей-нибудь широкой спиной.
Способ номер три: войти в зал кинотеатра через выход, когда зрители покидают зал, и затем спрятаться между рядами, пока в зал не начнут входить зрители на следующий сеанс.
Однако эти способы не всегда были эффективными. Нередко проникшего незаконным путём в кинотеатр с позором изгоняли обратно на улицу. Поэтому приходилось разными способами добывать деньги. Я сдавал молочные бутылки, носил макулатуру и цветной металлолом, собранный в развалинах домов, в пункт по приёму вторичного сырья, или как его коротко называли — в утиль-сырьё, иногда продавал старые книги, похищенные из дома, в букинистический магазин. Но денег всё равно не хватало, поскольку, кроме кино, хотелось купить мороженое, попить газированной воды с сиропом, пострелять в тире, съездить на каток. Короче говоря, надо было искать новые пути проникновения в кинотеатр. И я нашёл такой путь.
В те послевоенные годы перед началом сеанса в фойе кинотеатров обычно выступали музыканты, певцы, декламаторы. И вот я предложил администратору кинотеатра свои услуги в качестве декламатора перед сеансами для детей — детскими утренниками, поскольку самому мне было тогда двенадцать лет. Женщина-администратор прослушала меня и согласилась принять, хотя у меня были дефекты речи — я плохо произносил звук «р» и совсем не выговаривал «л» перед гласными буквами. Зато я читал с выражением и громко, что было очень ценно, поскольку в те времена микрофонов не было. Мне было указано читать наизусть патриотические стихи. Например, стихи лучшего и талантливейшего поэта нашей советской эпохи В.В. Маяковского. За чтение стихов я мог бесплатно смотреть все фильмы в кинотеатре «Спартак».
Итак, я начал читать стихи на детских утренниках, а потом и на дневных сеансах. Я тщательно готовился к своим выступлениям: по нескольку раз повторял стихи, тщательно отглаживал свой серый хлопчатобумажный костюмчик. Зрители громкими аплодисментами вознаграждали мои старания. Правда, я не понимал, почему взрослые от души смеются, когда я, читая «Стихи о советском паспорте» В.В. Маяковского, произносил: «К любым чертям с матерями катись…»Но постепенно я, как говорили впоследствии мои старшие товарищи, снизил требовательность к себе. Перестал готовиться к выступлениям, выходил в мятых брюках. Аплодисменты становились всё тише. Однажды я услышал, как двое мальчишек сговаривались освистать меня. Тогда я задумался и пришёл к выводу, что любое дело надо выполнять всегда хорошо и уважать людей, для которых ты что-то делаешь. И потом в своей жизни старался придерживаться этого правила.
Выступал я в кинотеатре два года. Эти два года я смотрел фильмы бесплатно. Потом сменился администратор, и мои выступления прекратились. Но любовь к фильмам не прошла. Я ходил на все новые фильмы, участвовал в конкурсах, посвящённых кино, которые устраивали пионерская газета «Ленинские искры» и молодёжная газета «Смена». Так, в одном из конкурсов предлагалось нарисовать сцену из какого-нибудь кинофильма. Я срисовал иллюстрацию из книги «Пятнадцатилетний капитан» Жюль Верна и, представив её как сцену из одноименного кинофильма, отправил в редакцию. Через некоторое время всех участников конкурса, и меня в том числе, пригласили на подведение итогов конкурса в детский кинотеатр «Родина». В ожидании начала мероприятия я вместе с другими ребятами рассматривал прилепившуюся к потолку огромную голую Венеру. И вот зазвучали фанфары. Под их звуки нам возвестили, что лучшей конкурсной работой признан портрет товарища Сталина. Автору портрета — парню с внешностью комсомольского вожака — вручили приз. Рядовые участники конкурса были явно разочарованы.
После подведения итогов был впервые показан кинофильм «Золушка», и это как-то подняло упавшее настроение участников конкурса.
Хотя, как говорят сегодня, «халява» кончилась, я продолжал ходить в «Спартак». Там я всегда чувствовал себя легко и свободно. И не только меня, но и других ребят постоянно тянуло в «Спартак». Будучи на улице, мы подходили к его стенам, чаще к северному фасаду, выходившему на улицу Петра Лаврова, стояли, обсуждали свои дела, рассматривали прохожих.
Мало кто из нас знал, что это здание раньше принадлежало церкви Святой Анны. Хотя слышали, что старое название улицы — Кирочная — как-то связано с немецкой кирхой. И лишь в 1963 году на здании была установлена бронзовая доска с надписью:
«Памятник архитектуры XVIII века. Здание бывшей лютеранской церкви Анны. Построено в 1779 году. Архитектор Ю.М. Фельтен. Перестроено в 1939 году. Охраняется государством».
Как видно, слово «Святая» исключено из названия церкви.
Далее >>
В начало
Добавить комментарий
Для отправки комментария вы должны авторизоваться.