Моя блокада
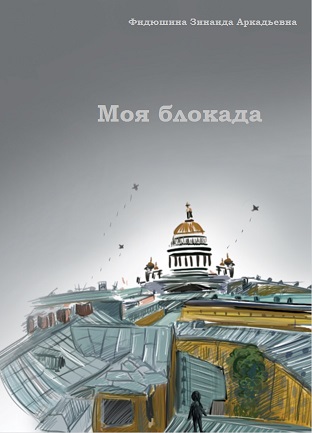
(Копия книги в формате PDF - здесь)
Пусть мои воспоминания будут благодарной памятью…
В школе № 20 Невского района ежегодно в день снятия блокады Ленинграда чествуют блокадников. 27 января 2009 года я случайно попала на это торжество, где меня попросили рассказать о жизни в блокадном Ленинграде. С того года меня стали постоянно приглашать в школу в день Снятия Блокады и в день Победы. Мои воспоминания ребята старших классов, да и пяти-шестиклассники, к моему удивлению, слушали заинтересованно и внимательно. А учителя даже просили написать все, о чем я рассказывала.
Моя родственница Четверякова Марина Георгиевна, побывав на встрече с писательницей Улицкой, тоже настойчиво просила написать о моей жизни во время блокады Ленинграда. И мне уже неловко было говорить «что как-нибудь напишу».
Но говорить – это не писать. Я 53 года работала врачом, писала истории болезни и амбулаторные карточки. Поэтому выразить свои мысли на бумаге довольно сложно. Но я все-таки попыталась написать о своей жизни в течение 900 блокадных дней в Ленинграде. Пусть мои воспоминания будут благодарной памятью маме, бабушке и школьным учительницам тех лет: Елене Левицкой, Людмиле МихайловнеГолицинской, Юлии Федоровне Каменской.
Лето 1941 года
Летом 1941 года я была на даче в Дудергофе в 40 км от Ленинграда. Мне было девять лет. Ребята с ближайших дач все время играли на горе, называемой «Вороньей». Мы искали там вороньи гнезда и собирали их перья.
22 июня был воскресный день. К обеду мы с двоюродной сестрой, восьмилетней Лялей, прибежали домой. Тогда, приехавшие из города Лялин папа и моя мама сказали, что началась война с немцами. На следующий день все дачники пытались вернуться домой. Поезда были переполнены. Нам с трудом удалось раздобыть машину и приехать в Ленинград.
Первым из нашей семьи ушел на фронт мамин брат- папа Ляли. Он работал на обувной фабрике, был талантливым закройщиком. У меня долго хранились туфельки, сделанные им, замшевые с лакированным носиком.
В 1938 году он был репрессирован (из рассказов бабушки) по доносу соседа по квартире. За несколько месяцев до начала войны был освобожден из тюрьмы. В первые дни войны он ушел добровольцем на фронт. Ему было сорок шесть лет.
Перед отправкой на фронт, дядя почему-то решил отвести меня и Лялю в музей Полярников на ул. Марата. Уже, будучи пожилыми людьми, мы с ней так и не поняли, почему в последний день он пошел с нами именно в музей. С фронта от дяди было всего два письма. А на все запросы один ответ – пропал без вести. Жена ждала его всю жизнь. Она даже пенсию за него не получала, потому что с формулировкой «пропал без вести» ее не выдавали.
Скоро на фронт ушел и мой папа. Перед отъездом он уговаривал маму отправить меня на Украину к дедушке и бабушке в город Ромны.
Там, дескать, я буду в безопасности. Город был оккупирован, а дедушку и бабушку, немцы сожгли в их же доме (со слов моей мамы).
В начале июля 1941 года была организованна эвакуация детей из Ленинграда по школам и предприятиям. Мамин младший брат до войны работал инженером на заводе «Красный нефтяник», в июне он ушел на фронт. Его жену с девятилетней Женей, годовалым Борей и нас с Лялей эвакуировали от этого завода.
В середине июля нас погрузили в товарный вагон (теплушку). Весь состав был отправлен в Новгородскую область. На станции Пестово всех ребят на телегах привезли в деревню, где разместили по избам по возрасту. Колхозники приносили нам хлеб, лук и молоко. Наши избы находились недалеко от дороги. Там постоянно стоял столб пыли от идущих с военными машин. Вдоль этой дороги целыми днями стояли ребята, махали руками и бубнили: «там едет мой папа».
В конце июля мы чувствовали волнение воспитателей: следующий за нашим поезд с ребятами разбомбили немцы, почти все дети погибли. Немцы подходили к Ленинграду
В начале августа нас снова погрузили на подводы и от станции Пестово на поезде отправили обратно в Ленинград. Периодически мы слышали над головами пока еще незнакомый гул самолетов. Каждый раз поезд останавливался, и мы помогали воспитателям выводить младших ребят из вагонов и укладывали их на траву под кустами. В августе1941 года я снова приехала в Ленинград.
В конце лета моей маме пришла мобилизационная повестка, она была фельдшером. Бабушка уговорила ее взять в военкомат меня, с надеждой что, если увидят женщину с ребенком, не возьмут в армию. Но весь коридор военкомата оказался заполнен детьми. Наверное, все решили так, как моя бабушка.
Маму призвали в армию. Бабушку оформили моим опекуном, предложили эвакуироваться, но она грозно ответила, что никуда с ребенком не поедет. «Хватит, уже спасали», — сказала бабушка, имея в виду мою эвакуацию в Новгородскую область. Семьи трех бабушкиных сыновей были эвакуированы.
Бомбежки города
Детей в доме осталось мало. Нам в домоуправлении выдали детские противогазы, и мы с гордым видом бегали по двору и кричали: «Внимание, внимание, на нас идет Германия, с пушками, снарядами, живыми поросятами».
8 сентября 1941 года мы, как обычно собрались во дворе и увидели на небе красно-багровое зарево. Это было удивительное зрелище и мне кажется, что это небо я помню до сих пор.
Мы с Зиной Бодюлиной, моей сверстницей, выбежали на Невский проспект (мой дом был на Владимирском пр. д. 3) и во все глаза смотрели на этот необычный цвет. Нам казалось, что он захватил все небо от Московского вокзала до Адмиралтейства. Позднее мы узнали, что это было зарево от пожара: немцы разбомбили Бадаевские склады, где находились запасы продуктов для жителей города.
Немцы начали ежедневно бомбить город. Я даже запомнила интонацию диктора, который по радио объявлял воздушную тревогу два или три раза подряд. Потом по радио выла сирена, а затем тикал метроном, столько времени, сколько продолжалась тревога. Внезапно переставал звучать метроном и диктор объявлял: «Отбой воздушной тревоги».
В один из дней сентября 1941 года бомбы падали где-то рядом с нашим домом. После объявления «отбоя» ребята отправились, так сказать, на разведку. Бомба попала в пятиэтажный дом на Стремянной улице. Это было прямое попадание, дом полностью разрушился. С трудом вытаскивали людей. Несколько машин скорой помощи стояло во дворе. Дружинники нас быстро выгнали, но за судьбой этого дома я как-то инстинктивно следила. Наверное, потому что это первый дом разрушенный бомбой, который я видела.
Мама, лейтенант медицинской службы, была направлена в резерв, который размещался в помещении Военно-воздушной академии на Петроградской стороне. Возле ворот академии всегда собирались ребята и взрослые, чтобы хоть как-то увидеть своих родных. Иногда солдат, стоящий у ворот, на минуту выпускал маму. Скоро ее направили в госпиталь 9-90 на 7-ой Красноармейской улице. Это была воинская часть и поэтому я больше не могла видеть маму.
1 сентября 1941 года наша школа не работала. Бомбежки были и днем и ночью. По звуку самолетов даже бабушка научилась определять, что летят немецкие «юнкерсы». Она приоткрывала чуточку на окне штору и говорила: «опять летят, заразы». Тогда мы выходили на лестницу и спускались в кромешной тьме на первый этаж. Туда же спускались все жильцы нашего подъезда: Старенькая мадам (так к ней обращались с довоенного времени) Агамжанова со стулом, пожилой муж с женой и дочерью, тетя Маруся с детьми, моим ровесником Вовой и пятилетним Борей, наша соседка со своим сыном Витей и тетя Катя с Валей. Витя и Валя были старше меня года на три.
В стене лестницы была вертикальная неглубокая выемка и в нее затискивались Боря, Вова и я и нас там закрывала собой тетя Маруся. Бомбы летели с воем и, когда вой бы прямо над нашими головами, на лестнице становилось жутко тихо, как будто люди даже не дышали. Потом слышался взрыв и все облегченно вздыхали, а тетя Маруся говорила: «не долетела». Через какое-то время опять вой, опять взрыв и тетя Маруся объявляла: «перелетела». Мы с Вовой как-то вышли из своего убежища во двор. В темном небе в лучах прожекторов были виды самолеты и от них как сосиски отделялись бомбы. Скоро умерла мадам Агамжанова, потом пожилой сосед. Его жену и дочь эвакуировали по льду Ладожского озера. После войны мы получили от них письмо из Самарканда.
Совсем не было света. Для освещения была приспособлена маленькая бутылочка с фитилем (коптилка), в которую наливали керосин. Бабушка называла ее «фитюлька». Если надо было осветить кухню или другую комнату бабушка брала с собой «фитюльку» и тогда я сидела в темной комнате и ждала, так сказать, свет. Керосин для коптилки достать было трудно. Его иногда давали в керосиновой лавке — Владимирский пр., д.9. Из-за частых бомбежек идти за керосином было опасно, но он был необходим для примуса, на котором готовили пищу.
На окнах была маскировка: у нас было три окна и все завешаны одеялами и шторами. Дворник дядя Вася тщательно следил, чтобы не видна была полоска света. Он свистел и кричал, чтобы в такой-то квартире зачехлили, как следует окно, а то, как говорил дядя Вася, «немец увидит, разбомбит».
Блокадные «разносолы»
Водоснабжения в городе не было. Я ходила с бидоном на Невский проспект. Там во дворе дома была колонка. Зима была холодная, снежная. Возле колонки образовалась ледяная горка, лед не скалывали. Бидон или ведро повесить на крючок было очень трудно (скользко и тяжело). Возле колонки прямо на снегу часто сидели или лежали обессиленные женщины. Во двор периодически приезжали грузовики с дружинницами, они помогали женщинам встать или увозили их. Зимой 1941 года всем выдали продовольственные карточки. У бабушки – иждивенческая, у меня — детская. Норма хлеба по нашим карточкам была 125 гр. На талон «масло», насколько я помню, давали яичный порошок, на талон «сахар» — немного конфет или порошок какао. За хлебом я ходила в булочную на угол Караванной улицы и Невского проспекта. Возле магазина всегда была небольшая очередь, женщины и девочки, закутанные в платки. Иногда мы ходили за хлебом втроем: мои ровесники Зина и Вова. Мы получали свой паек и бережно несли домой.
Один из старших сыновей моей бабушки работал в Ленинграде на заводе Монументскульпутра. Он несколько раз приносил нам столярный клей, похожий на плитку шоколада. Бабушка разбивала его молотком, заливала водой и варила студень. Процедура эта была сложная, несколько часов этот, так сказать, студень варился на примусе. Потом в целях экономии керосина его переставляли на железную печурку – буржуйку, которую нам сделал дядя на своем заводе. Надо было все время мешать студень, и я сидела на детском стульчике и три часа мешала это варево. А бабушка подкладывала в печурку дрова, которые у нас остались еще с довоенного времени. Она с надеждой смотрела на этот студень, потому что это была наша еда на несколько дней и в тоже время ворчала, что он «сожрет» все наши дрова.
Иногда дядя приносил нам бутылочку олифы, и бабушка жарила оладьи из дуранды на этой олифе. Запах от этой жарки был не очень приятным, но сносным. Соседка жарила хлеб на рыбьем жире. Бабушка говорила, что если мы не погибнем от голода или бомбы, то запах рыбьего жира нас точно отравит.
В конце 41 года или начале 42 года завод Монументскульпутра был эвакуирован по ледовой дороге и мой дядя уехал. Клея и олифы больше не было.
Первая зима
Мама продолжал служить в госпитале 9-90. Во время длительных ночных бомбардировок медсестер из госпиталей развозили по городу для оказания помощи раненым. Тогда мама забегала к нам и быстро отдавала бабушке пол-литровую стеклянную банку с кашей, которую она собирала в течение нескольких дней, два кусочка сахара и махорку – это ей выдавали как офицеру. Бабушка плакала, просила ее не отдавать нам свой паек. Но всю зиму 1942 года по ночам раздавался звонок, и на пороге квартиры появлялась мама – маленькая в длинной шинели, в валенках и шапке ушанке завязанной под подбородком. В квартиру она никогда не входила, отдавала все прямо на лестнице.
Медсестер возили в разные районы города в зависимости от бомбардировок. Как ей тогда каждый раз удавалась прибегать к нам? Жаль, что я не спросила ее об этом.
Наша соседка по квартире работала в госпитале на кухне и к ней часто приходили ее племянницы. Молодые девушки, как дружинницы получали военный поек, но без махорки. Бабушка обменивала у них махорку на картофельные очистки и хлеб. Из картофельных очисток она в обычной городской печке запекала пудинг или оладьи. И сейчас запах картофельных оладий, сделанных из нормальной картошки, напоминает мне те, бабушкины оладьи.
Дров было мало, и бабушка топила буржуйку не каждый день. Дома ходили в верхней одежде. Спали мы тоже в одежде. Бабушка прижималась ко мне и пыталась согреть своим дыханием то шею, то плечо, то спину и постоянно спрашивала: «Тебе не холодно?». Иногда с фронта приезжал мамин младший брат – капитан инженерных войск. Он привозил сухари и небольшое бревно. Мы укладывали это бревно между дубовым обеденным столом и письменным столом, и вместе с дядей пилили. Бабушка не могла нам помочь. До войны она была красивой дородной женщиной, но зимой она похудела так, что в качестве ватника носила мое старенькое довоенное зимнее пальто.
Зимой 1942 года дворник нашего дома дядя Вася передал, чтобы в с е дети младшего школьного возраста пришли в бомбоубежище на Владимирском проспекте дом 8 или 10. На следующий же день ребята, все кто мог, побежали в это бомбоубежище. Проезжая часть Владимирского проспекта была густо завалена снегом, даже трамвайные рельсы не были видны. Один или два трамвая, все в снегу, стояли на проспекте с тех пор, как в городе отключили электричество. В бомбоубежище женщины, дети и пожилые люди сидели на стульях, взятых из квартир, или прямо на полу. Возле стены стоял стол, во главе которого сидел молодой человек – учитель. Собралось около десяти ребят 9-10 лет, мы уселись на длинные скамейки, и учитель нам читал, рассказывал, мы даже что-то рисовали. Мы приходили каждый день и «учились» по несколько часов, несмотря на ежедневные длительные бомбежки. Сколько бы человек не находилось в этот момент в бомбоубежище, наши скамейки никто не занимал. Однажды нам пришлось довольно долго ждать своего учителя, и он не пришел. Так продолжалось несколько дней подряд, пока кто-то не сказал нам, что он умер. Наше обучение прекратилось.
В этом бомбоубежище я встретила девочку, с которой мы еще до войны гуляли с нашими бабушками в садике на Владимирском проспекте у дома 11. Садик назывался «похоронка», так как в нем размещалось похоронное бюро. Так, в бомбоубежище я познакомилась с Лерой Румянцевой.
Старший сын бабушки, ему было около пятидесяти лет, работал в Ленинграде на обувной фабрике. Изредка, в выходные дни он приходил к нам. Зима 1941-42 годов была очень холодной, и бабушка сшила ему наносник – меховую тряпочку на нос. Из-за того, что сильно мерзли руки, и просто не хватало сил, дядя не мог нести свой дневной паек в руках, и поэтому у него на пуговице зимнего пальто висела сеточка с хлебом.
В феврале 42 года его привезли на тачке. Он погибал от дистрофии. У него был, как тогда говорили, голодный понос. Канализация тогда не работала и все выливали помойные ведра прямо во дворе, в снег. В феврале 42 года дядя умер. Я пошла в госпиталь, где служила мама. Транспорт не работал, так что от Владимирского проспекта до 7-ой Красноармейской улицы я шла пешком. В пропускном пункте госпиталя я попросила дежурного солдата сообщить маме о смерти ее брата. Хоронить его, кроме меня и бабушки, было некому. Мама пришла через несколько дней. Мы завернули труп в простыню, привязали его к моим детским саночкам и с трудом спустили по лестнице с третьего этажа. Мама отвезла его на пункт, куда сдавали трупы.
У бабушки от отсутствия витаминов и постоянного недоедания выпали все зубы. Она вынимала зуб изо рта и просила меня положить его в ящик стола. Так она спокойно вынула все зубы. Осенью 1941 и зимой 1942 года мы с бабушкой не мылись в бане. В нашем постельном белье и в волосах завелись вши. Бабушка расправлялась со вшами храбро, мне же было противно. Но бабушка все равно учила меня уничтожать эту гадость.
Я вымылась только весной 1942 года, когда открылась баня для личного состава госпиталя и мама умудрилась провести меня с собой. Ранней весной мы с бабушкой один или два раза совершали обход квартир ее сыновей. Сами они были в армии, а их семьи эвакуированы. Одну квартиру на улице Восстания разбомбили еще в конце 1941 года. Квартира второго бабушкиного сына находился по адресу улица Марата дом 8. Во дворе этого дома была воронка от бомбы, в квартиру на первом этаже мы забирались по доскам. Все стекла в квартире были разбиты, в комнате практически ничего нет. Соседка пригласила нас к себе, отдохнуть. У нее в комнате стоял детский столик моей сестры, на кровати лежало покрывало моей тети. Увидев это, бабушка тут же вышла из квартиры, прошептав мне: «Бог за воровство покарает». В этот дом мы больше не ходили.
В следующий раз мы отправились на улицу Марата дом №62, там раньше жил младший сын бабушки. Дом не был разрушен, даже все стекла были целы. Поэтому мы пошли к дому №67 по той же улице, в квартиру старшего сына бабушки. Там мы с трудом поднялись по узкой лестнице на четвертый этаж. Квартира была открыта, но не было никого видно, только из одной комнаты раздавался стон. Мы зашли туда. На кровати лежала закутанная женщина. Бабушка спросила: «Что с тобой, Лиля?». Бабушка с довоенных времен знала всех жильцов этой большой коммунальной квартиры. Лиля сказала, что она очень слаба, что у нее нет еды, воды, встать она не может, и поэтому уже несколько дней не отоваривала карточки.
Мы помогли ей встать и одеться. Пришлось разрезать валенки, от голода у нее распухли ноги. С улицы Марата мы доползли до Владимирского проспекта и уложили Лилю на черный кожаный диван в нашей квартире. После этого я получила продукты по ее карточке. У Лили была рабочая карточка, а это, кажется, было 300 грамм хлеба. Вскоре наша Лиля ожила и смогла пойти на работу на завод им. Егорова. На заводе рабочих иногда, так сказать, подкармливали, давали баночку шрот. У нас она прожила еще несколько дней, после чего мы распрощались. Уходя от нас, Лиля оставила две баночки шрот. Баночки по форме напоминали баночки со шпротами, и мне до сих пор кажется, что шроты пахли шпротами. Через много лет я узнала, что такое шроты Увиделась я с Лилей уже только после войны, бабушки уже тогда не было.
Зимой 1941-1942 гг. ленинградцы, жившие на последних этажах пяти, шестиэтажных домов, старались переселиться в первые этажи из-за постоянных бомбежек. Моя тетя с двумя дочками перебралась с ул. Марата на Басков переулок к родственникам. Бабушка изредка посылала меня к ним узнать живы ли? Однажды, придя на Басков переулок, я увидела распухшую от голода тетю. Старшая ее дочка от слабости не могла встать с кровати. Родственники тети: мужчина пятидесяти двух лет, его жена и бабушка умерли. Моя бабушка, узнав о состоянии тети и ее дочек, это были две ее старшие внучки, отправила меня обратно с санками. Мы с другой моей двоюродной сестрой, ей было 17 лет, закутали двадцатилетнюю девушку в одеяло, привезли ее к нам домой и положили на тот же диван, на котором недавно лежала Лиля. Бабушка делила между мной и сестрой всю еду, которую ей удавалось выменять на мамину махорку. Продовольственную карточку сестры бабушка оставила моей тете, чтобы помочь ей выжить. Скоро тетя и ее дочки были эвакуированы из Ленинграда в Башкирию.
До войны я собирала фантики от конфет, особенно ценились фантики от конфет из Прибалтийских республик. Во время войны я собирала осколки от бомб и снарядов. Собирала, когда ходила за хлебом, водой и керосином, когда обходила с бабушкой дома ее сыновей, ходила в школу. Осколками с Владимирского проспекта, с улицы Марата, Стремянной улицы и Невского проспекта был заполнен рукав от бабушкиного пальто. Через много лет после войны с этими осколками играл мой сын, многие я подарила. Сейчас вместе со знаком «Житель блокадного Ленинграда» я бережно храню оставшиеся у меня осколки.
Школа № 218
4 мая 1942 года была открыта наша школа №218 на улице Рубинштейна, 13. Летом занятий не было, но мы все равно ежедневно приходили в школу. Мы помогали учителям составлять списки детей школьного возраста, для этого мы обходили квартиры близлежащих домов. Однажды в доме по Пролетарскому переулку, сейчас это улица Марии Ульяновой, мы с группой ребят вошли в квартиру – она была открыта. В комнате, на кровати лежала девочка. У нее было худенькое, очень узкое личико и ни одного зуба. Она сказала, что зовут ее Эля Киселева, и что у нее все погибли. До школы она дойти не могла, потому что очень ослабла. Мы рассказали учительнице об Эле. В этот же день я зашла к ней, предупредить, что к ней придет дружинница. В школе я Элю не видела и как-то забыла о ней. Но в 1965 или 1966 году в поликлинике на улице Маяковского я встретила женщину, у которой все зубы были металлические. Мы сразу узнали друг друга. Эля окончила ремесленное училище, работала, была замужем и воспитала двоих сыновей.
В школе были организованны обеды – бесплатные и без карточек, так называемое детское школьное питание. В него входило суп, второе блюдо, компот и кусочек хлеба. Совсем слабым детям к обеду добавляли стакан соевого молока.
Все ребята, пришедшие 1 сентября 1942 года в третий класс, последний раз были в школе в 1940 году. За эти годы они мало выросли и уж совсем не поправились. Большинство из них пришли в той форме, что сохранилась у них с довоенных времен.
В 1942 году двоюродная сестра моей мамы, у которой от голода умерла дочка, принесла мне ее одежду (девочка была немного старше меня). Ее джемпер я носила до пятого класса. В третий класс мы пришли вместе с Лерой Румянцевой. Почти десять лет мы с ней просидели за одной партой. Дружили в школе, потом в студенческие годы, хотя учились в разных институтах, затем дружили, когда обе стали мамами, и когда стали бабушками.
Классным преподавателем нашего третьего класса была Елена Левицкая (отечество я, к сожалению, забыла). Летом она носила белую широкополую шляпу и мы прозвали ее «Наполеон». В школу мы приходили к девяти часам, но только усаживались за парты, как объявлялась воздушная тревога, и мы быстро собирали портфели и бежали с нашим «Наполеоном» в бомбоубежище на улице Рубинштейна дом 15/17. Несмотря на постоянные тревоги, наша учительница старалась нас чему-то научить. Она каждую неделю проверяла наши дневники, писала замечания. Так же она ходила с нами в столовую, следила, чтобы все получали соевое молоко. В школе было печное отопление, поэтому в классах было чуть тепло. Во время перемен, все выбегали из классов (их было 6-7) в зал, где была одна печка. Ребята прижимались к ней и старались согреться.
Каждую неделю учительница пения Агнесса Михайловна разучивала с нами военные песни: «Священная война», «Эх, Ладога, родная Ладога», «Бескозырка», «Вечер на рейде». Агнесса Михайловна из девочек разных классов организовала хор, человек в двенадцать. Из нашего класса там пела Надя Тимошенко. Этот хор стал основой нашей маленькой самодеятельной бригады, куда вошли еще две девочки из второго класса – они танцевали. Наша «Наполеон» разучила со мной стихотворение Симонова «Убей его». После уроков пионервожатая Дора очень быстро шла с нашей бригадой, чтобы успеть добежать до госпиталя на Литейном проспекте (там сейчас онкологическая больница) и не попасть под бомбежку.
Мы выступали перед ранеными в больничных палатах. Аккомпаниатор на баяне был из госпиталя. Запевалами были две девочки: Нина Кононова и Полина Брук. Мы пели песни, которые разучивали на уроках с Агнессой Михайловной. Полина Брук своим красивым голосом пела романс Алябьева «Соловей». Раненые постоянно просили Полю повторить его. Я же декламировала стихотворение Симонова «Жди меня» («Убей его» мне не нравилось). Со своим концертом мы переходили из одной палаты в другой. Воздух в комнатах был тяжелый, и иногда девочкам становилось плохо. Они выходили в коридор, но скоро возвращались и продолжали петь.
В госпиталь мы ходили несколько раз в неделю. Иногда, после уроков, на машине с крытой брезентом крышей нас возили в воинские части. Когда мы спрашивали Дору, куда нас везут, она отвечала к шефам. Там нас кормили в солдатской столовой кашей, и мы исполняли свой репертуар на сцене в зале. После концерта в этом зале были танцы, а мы ждали, пока нас отвезут домой. Дора, молодая девушка, в это время танцевала с военными. Когда нас везли обратно, мы, «злые детские языки», на всю машину кричали «ДШП» (детское школьное питание), но в данной ситуации это означало: «Дора шефа подцепила».
К новому 1943 году наша «Наполеон» решила поставить с нами спектакль «Сказка о царе Салтане» А.С.Пушкина. Каждую свободную от уроков и бомбежек минуту мы репетировали. Это был последний год, когда мы учились с мальчиками. Я была царевна-лебедь, Вова Гарцман – царевич Гвидон, Игорь Метелкин – дядька Черномор. В сам новый год не было елки, но спектакль мы поставили, правда, без костюмов.
Этой же зимой 1942 года молодая учительница естествознания Людмила Михайловна Галицинская собрала девочек из нашего и четвертого класса в своем кабинете и предложила пойти в Михайловский сад. «Украсим наш кабинет» — сказала она. Так зимой 1942 года группа девочек из третьего класса: Лера Румянцева, Надя Тимошенко, Жанна Анисимова, Люся Коровкина, Леля Кубланова, я и еще несколько девочек из четвертого класса стали собираться после школы с Людмилой Михайловной и ходить в Михайловский сад. Нам надо было быстро добежать до Михайловского сада между бомбежками. Там мы собирали замершие ветки и ставили их в воду. Было холодно, голодно, бомбежки, а в кабинете у Людмилы Михайловны расцветала зелень.
В зимние каникулы 1943 года Людмила Михайловна поручила нам с Лерой написать доклады — Лере о колюшке, мне о моллюсках – и попросила нарисовать на титульных листах наших морских обитателей. Неожиданно с фронта приехал мой папа. Он привез хлебные сухари, расписался в школьном дневнике и нарисовал на титульном листе моего, так сказать, доклада моллюска. Папа посадил меня на санки и мы отвезли этот доклад Людмиле Михайловне. Она, как и многие учителя, жила с маленькой дочкой Наташей в бомбоубежище в школе соседней с нашей. Людмила Михайловна погладила меня по голове и сказала, что мой доклад на самолете через линию фронта отправят в Москву на выставку. «Надо, — сказала она, — чтобы все знали, что в голодном измученном бомбежками Ленинграде дети живы и даже пишут доклады». Папа уехал на фронт и 16 февраля 1943 года был убит. У меня сохранился дневник за третий класс с его росписью, а вот рисунок моллюска пропал. Уже через много лет Людмила Михайловна отдала Лере ее доклад. Он был на выставке во Дворце творчества юных. Мне же мой доклад Людмила Михайловна не вернула, сказав, что отправила его на выставку зимой 1943 года, что кажется мне очень сомнительным. «Мои юннаты»
18 января 1943 года была прорвана блокада Ленинграда. Бомбежек стало меньше, но ежедневно немцы обстреливали город. Говорили, что немецкие пушки стоят на Вороньей горе, и я сразу представляла себе зеленую гору с множеством вороньих гнезд, на которой мы раньше любили играть. Казалось, что это было очень давно, а ведь прошло всего два года.
Весной 1943 года наша группа девочек вместе с Людмилой Михайловной продолжала ходить в Михайловский сад. Собирались обычно после школы, а в выходные дни место встречи было на набережной реки Фонтанки у Дворца пионеров (Аничкового дворца). В прудах Михайловского сада мы вылавливали головастиков, моллюсков и помещали их в аквариумы в нашем кабинете ботаники. Однажды мы возвращались из сада с головастиками, личинками и моллюсками, как вдруг началась тревога, завыла сирена. Людмила Михайловна с ребятами побежала в подворотню, кажется на Садовой улице, в здание военной поликлиники. У меня из рук выскочила банка с моллюсками, и я стала собирать выпавших моллюсков. Людмила Михайловна выбежала из своего укрытия, схватила меня, чуть ли не на руки, и затащила в подворотню. Людмила Михайловна ласково называла нас «мои юннаты». Мама Леры Румянцевой во время блокады работала рыбаком и принесла нам миногу. Мы поместили ее в аквариум, эта минога стала гордостью нашего кружка юннатов. Несмотря на голод, минога прожила у нас долго.
«Репортаж из блокады»
18 мая 1943 года был солнечный день, время обеда. Ребята из первого класса уже пообедали и играли возле окон школьной столовой. Второклассники обедали, а ребята нашего третьего класса стояли перед входом в столовую и ждали своей очереди. Артиллерийский снаряд попал в дом напротив школы. Осколки посыпались на ребят, игравших на улице. Были разбиты стекла в окнах столовой, и осколками были ранены ребята, стоявшие рядом с ними. Несколько человек были убиты. Наш класс и другие классы директор школы Нина Борисовна и учителя быстро вывели через запасной выход во двор и отправили по домам.
Уже после войны Людмила Михайловна рассказывала, что до приезда скорой помощи она перевязывала раненых ребят и уже только после их транспортировки перешла в бомбоубежище школы, где она жила, вся в крови. На следующий день на перемене нас вывели в зал, и молодой человек (как я потом узнала корреспондент Лазарь Маграчев) попросил нас кричать так, как мы кричали вчера, когда на ребят падали осколки снарядов. Уже много лет спустя мне подарили книгу Лазаря Маграчева «Репортаж из блокады», где он рассказал о нашей школе. В 1942-43 годах по радио шла передача «Бойцам Ленинградского фронта». Я слышала, как мама, у которой в тот день погиб сын-первоклассник и была ранена дочка, ученица второго класса, просила бойцов отомстить врагам за гибель детей.
Закончилась вторая блокадная зима и первый военный учебный год – третий класс. Помню, что домашнее задание я делала редко. На столе стояла коптилка, бабушка сидела рядом. Выйти из комнаты она не могла, так как иначе оставила бы меня без света. Иногда, когда я не могла решить задачу, бабушка брала коптилку и шла к соседке по лестничной клетке, шестикласснице Вале, и просила ее помочь. Валя помогала. Чаще всего я пропадала или в госпитале или в Михайловском саду. Удивительно, что в ведомости за третий класс у меня хорошие отметки. Просматривая дневник за третий класс, я вспоминаю нашего «Наполеона». Полуголодная, в городе с постоянными бомбежками и обстрелами, при свете коптилки, она каждую неделю проверяла наши дневники, выставляла оценки и писала замечания. Мой дневник тому пример.
Летние каникулы 1943 года
В летние каникулы 1943 года ребят из старших классов нашей школы отправили на сельскохозяйственные работы, на огороды под Ленинградом. Со старшими ребятами поехали и девочки из нашего третьего класса: Лера Румянцева, Леля Кубланова, Вера Маневеева. Немцы ежедневно обстреливали город, так что ребята работали в прифронтовой полосе все лето. Все девочки были награждены медалями «За оборону Ленинграда».
Мама, с разрешения начальника госпиталя, в эти каникулы взяла меня к себе на работу. Я жила в общежитии медицинского госпиталя и ходила в столовую с солдатским котелком. Буфетчица на завтрак и ужин клала в крышку котелка кашу и, как бы извиняясь, говорила: «Только одна порция». В обед она наливала в котелок суп и говорила: «Тебе с мамой хватит». Три молоденьких сестрички из нашей комнаты делились с нами своим скудным пайком.
К девяти часам я шла в кабинет лечебной физкультуры, где работала моя мама. Заведовала кабинетом капитан медицинской службы Данциг. Я не знаю ее имени и отчества: к ней обращались, называя ее воинское звание. Она потребовала, чтобы у меня был халат и косынка, обозначила мои обязанности. Я разрабатывала у легкораненых суставы резиновой грушей и мячиком, разбинтовывала загипсованные руки и ноги, разносила истории болезни по отделениям. Работу свою я делала с удовольствием и сейчас мне приятно вспоминать об этом (тогда мне было 12 лет).
Раненые относились ко мне очень тепло, старались сунуть что-нибудь съестное: булочку, печенье, сахар. Я помню нескольких молоденьких ребят, лежавших в госпитале. Коля Воеводкин говорил, смеясь, что он «железный», у него уже было семь или восемь осколков. Два друга: Жовтонишка и Дроздов, были ранены в руки и на концертах хлопали, соединяя здоровые руки. Концерты в госпитале были, мне кажется, каждую неделю. Обычно они устраивались силами медсестер и врачей. Иногда приезжали артисты. Когда пел Ефрем Флакс приходили раненые, даже те, кто добирался до актового зала только с чьей-то помощью. Сейчас, когда я вспоминаю этого певца, у меня перед глазами худенький молодой человек с мощным красивым голосом.
Во время тревоги я бежала в палаты и помогала раненым спускаться в бомбоубежище, потом, перескакивая через несколько ступенек, бежала обратно в палаты и опять спускалась с ними в бомбоубежище. И так в течение всего обстрела или бомбежки. Машины полные раненых шли одна за другой. Дежурный солдат, открывавший ворота госпиталя, спрашивал, откуда они. Шофер отвечал: «с Пятачка».
Иногда я помогала раненым дойти до приемного отделения. Они одаривали меня немецкими губными гармошками, складными ножичками, котелками, кто-то даже подарил шомпол для чистки ружья. Со многими этими вещами через много лет после войны играли мои дети. В течение трех месяцев, что я проработала в госпитале, я каждую неделю ходила к бабушке пешком с 7-ой Красноармейской улицы до Владимирского проспекта. Я отоваривала свою детскую и иждивенческую карточку бабушки, оставляла ей все эти продукты и у нее была возможность понемногу питаться.
Новый учебный год — 1943
1 сентября 1943 года я пошла в четвертый класс. Школа была уже женская, так как всех мальчиков перевели в другую школу №206. Учительница Елена Левицкая в школу не пришла (говорили, что она умерла).
Нашим классным преподавателем стала учительница русского языка и литературы Коменская Юлия Федоровна. Она была уже не молодая женщина, бледная, с отеками под глазам, всегда гладко причесана. Она носила темное платье, часто с рыжей лисой на плечах, которую она укладывала на стол рядом с классным журналом. Юлия Федоровна следила, чтобы девочки были аккуратно причесаны и оде ты (хотя одежда была еще довоенная, из которой многие выросли). Она водила нас на обед, бежала с нами в бомбоубежище во время тревог. Правила по русскому языку мы знали, наверное, как свои пять пальцев. Юлия Федоровна или, как мы ее называли, «Юлюшка», требовала, чтобы ко всем правилам мы приводили примеры из литературных произведений. Это заставляло нас читать стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Майкова и других поэтов. Девочки знали наизусть большие отрывки из поэм, а иногда и целые поэмы. Книги мы обычно брали в школьной библиотеке. А библиотекарь Александра Николаевна принимала активное участие в нашей жизни, во всяком случае, в моей.
Юлия Федоровна и Александра Николаевна после уроков устраивали мне диктанты. Я сидела за партой с лучшей ученицей нашего класса Лерой Румянцевой. Она старалась проверить мой диктант или сочинение. Юлия Федоровна любила Леру, но во время письменных контрольных работ она обычно говорила: «Лерочка, пересядь, пожалуйста, на другую парту. Пусть Зина сама думает». К сожалению, несмотря на все старания Юлии Федоровны, я так и не научилась грамотно писать.
К ноябрьским праздникам 1943 года Юлия Федоровна и Александра Николаевна подготовили с девочками из четвертого и пятого классов и еще несколькими ребятами из шестого и седьмого классов литмонтаж о Ленинграде. 6 или 7 ноября 1943 года обе учительницы привели нас на улицу Ракова в радиокомитет. Артист Владимир Ермогаев руководил нашим выступлением по радио. Моими словами, кажется, были: «Бабахнула Аврора шестидюймовая» или «В железных ногах Ленинграда по городу Киров идет». Это был первый и последний раз когда я была в радиокомитете города Ленинграда. Владимира Ермогаева я помню до сих пор.
Дома в обнимку с черной тарелкой радиоприемника меня ждала бабушка. Она сказала, что слушала наше выступление. Бабушка всегда ходила с радио по квартире (благо провод был очень длинный), чтобы не пропустить что-то важное с фронта. Помню, как-то сообщили, что на Ленинградском фронте армия генерала Федюнинского за последние сутки остается на прежних позициях. Бабушка горестно обращалась к черной тарелке: «Эх, Федюнинский, Федюнинский, что же с нами будет?».
Был ноября 1943 года. Обстрелы города продолжались, по ночам были бомбежки. Людмила Михайловна старалась обустроить кабинет юннатов. В банках стояли зеленые ветки, а рядом аквариумы с моллюсками. Людмила Михайловна договорилась, что в школе на Невском проспекте ей дадут лягушку. Девочки из нашего класса, Надя Тимошенко, Люся Коровкина и я, бережно несли аквариум с лягушкой с Невского проспекта в нашу школу на улицу Рубинштейна. Как только мы повернули на Пролетарский переулок, начался артиллерийский обстрел.
Мы добежали до школы №219, в бомбоубежище которой жили наши учителя, и прислонились к стене дома. Внезапно что-то влетело в наш аквариум, то ли осколок, то ли камень, то ли штукатурка. Вода брызнула в наши лица и через дырку стала литься на ноги. В аквариуме лежала уже мертвая лягушка. В это время из бомбоубежища выбежала Людмила Михайловна, она выхватила из наших рук аквариум и отбросила его настолько далеко, насколько хватило сил. Затем схватила нас всех троих разом, привела в бомбоубежище, обогрела, успокоила и отправила по домам. Через много лет после войны она рассказывала, как волновалась за нас тогда, и все время выбегала встречать. Еле дождалась.
Ранним утром осенью 1943 года, когда мы с бабушкой спали, что-то громко просвистело мимо наших окон. Некоторые окна открылись, но стекла не разбились. Раздался удар. Соседка, Татьяна Ивановна, закричала «снаряд», и она со своей дочкой Валей и мы с бабушкой выскочили из квартиры на улицу и побежали как можно дальше от дома. В садике на Стремянной улице все остановились, посмотрели, что дом наш на месте и побрели обратно. Снаряд попал в стену соседнего шестиэтажного дома №1 по Владимирскому проспекту, но не взорвался. Дыра в стене этого дома была до окончания войны, потом ее заложили красным кирпичом. Во время редких встреч с моим бывшим соседом Витей мы вспоминали «счастливый снаряд».
Жизнь после снятия блокады
27 января 1944 года во вторую половину дня из сообщения по радио мы с бабушкой узнали, что с Ленинграда снята блокада. Скоро ко мне прибежала Лера Румянцева и Галя Прокофьева. Мы вместе с бабушкой вышли на улицу. Владимирский проспект был весь заполнен людьми. Раздавались залпы артиллерийских орудий – салют. И в темном Ленинградском небе рассыпались разноцветные огоньки фейерверка. Они освещали людей, на лицах которых были улыбки счастья и слезы. На следующий день Юлия Федоровна задала нам дома написать сочинение на тему «Снятие блокады с Ленинграда». Это сочинение я сохранила до сего дня.
Бомбежки и обстрелы города прекратились, но война продолжалась. Мы с Людмилой Михайловной продолжали ходить в Михайловский сад «лечить» раненые деревья: закладывать известкой дыры от осколков в коре. В апреле 44 года Людмила Михайловна привезла «своих юннатов» на станцию Озерки. Небольшой участок земли был изрыт бомбами и снарядами. Кое-где были глубокие воронки. Наша неутомимая учительница раздала девочкам лопаты. «Будем делать грядки» — сказала она. Как-то со счастливым лицом она сообщила нам, что получила посылку с семенами с большой земли (с тыловых районов). Этой же весной мы посадили первые яблони. Этот участок земли потом превратился в красивую городскую станцию юных натуралистов.
Приближался конец войны. Госпиталь 9-90 уехал в Польшу. Мама какое-то время служила в госпитале, который был размещен в Михайловском замке. Помню, как в больничном зале стояли топчаны, на них лежали раненые. Зал был превращен в большой физиотерапевтический кабинет. В марте 1945 года мама была демобилизована. Младший брат мамы ушел с армией на запад. В Германии, в освобожденном от немцев городе Нейссе, 23 марта 1945 года он был убит снайпером.
14 марта 1945 года умерла моя бабушка, ей было 69 лет.
9 мая 1945 года по радио голос Левитана известил, что война закончилась. 9 мая днем к нам пришли жены маминых братьев. Они сидели на нашем черном кожаном диване и плакали. Мама прибежала с работы радостная – кончилась война! Она не знала, что погиб ее младший брат В тот день маму пожалели и не сказали ей ничего, ведь совсем недавно умерла бабушка. По радио звучали веселые военные песни и марши. А у нас на диване сидели четыре вдовы, одна из которых через неделю родила третьего ребенка. С улицы доносился веселый праздничный гул. У меня были друзья, и поэтому я тихонько выскользнула из дома.
Через несколько месяцев после окончания войны я и мой друг (нам было 13 лет) отправились на Кондратьевскую площадь. Там было повешено шесть или восемь, точно не помню, немецких офицеров. На площади было много народа, кто-то тихо стоял, кто-то быстро проходил мимо. Возле виселиц ходил милиционер, следил, чтобы к повешенным не подходили люди. Но мальчики, да и женщины тоже, умудрялись подойти и плюнуть на тех, кто висел. Тогда я первый и, слава богу, последний раз видела так близко виселицу. У меня не было ни страха, ни жалости. Почему же не было жалости? Ведь висели люди, пусть в немецкой военной форме, но ведь люди. Наверное, я не видела в них людей. Для меня это были фашисты, которые принесли так много горя.
Через десять лет мальчик, с которым мы были тогда на Кондратьевской площади, стал мои мужем. За пятьдесят пять лет нашей совместной жизни мы никогда не вспоминали виденное на этой площади.
Дорогие мои учителя…
Все о чем меня просили написать, я написала, но я не могу на этом поставить точку. В самое тяжелое время мама приносила в баночке свою кашу. Она сохранила мне жизнь. Юлия Федоровна и Людмила Михайловна воспитали меня, и их я вспоминаю не реже, чем свою маму.
В первое же лето после окончания войны весь наш класс отправился с Юлией Федоровной в пионерский лагерь. В столовой она следила, чтобы все съедали, а перед сном она читала нам Гоголя. Даже в бане она смотрела, чтобы мы не ошпарились и мылись, как следует. В шестом и седьмом классе Юлия Федоровна часто водила нас в Русский музей. Помню, как долго разбирали картину Перова «Монастырская трапеза», писали по ней сочинение. На уроках литературы Юлия Федоровна рассказывала о гаданье девушек в Рождество, о колядках, о масленице. А тогда такие разговоры, да еще на уроке, были опасны. Часто наша учительница устраивала литературные вечера. Девочки читали стихи и прозу Тургенева, учились читать стихи под музыку.
В восьмом классе к нам пришел новый учитель по литературе. Юлии Федоровне не разрешили преподавать в старших классах. Для нас это было горе. Но, даже не будучи нашим классным руководителем, Юлия Федоровна до самого окончания школы интересовалась нашими делами. На последней школьной фотографии десятого класса она с нами. Последний раз мы были в школе через десять лет после ее окончания. Юлия Федоровна подробно расспрашивала о нашей жизни, переживала, если у кого-то что-то не ладилось. Мы окончили школу, учились в институте, работали, но для Людмилы Михайловны все равно оставались «моими девочками». В дни снятия блокады она всегда собирала юннатов из 218 школы, из Дворца пионеров и городской станции юннатов в Озерках.
Далеко от Ленинграда
В 1942 году мы с бабушкой выхаживали моего дядю и Лилю, умирающих от голода: поили их какао, которое выдавали на мою детскую карточку. Лилю удалось спасти, а дядя умер у нас на руках. В 1943 году я помогала раненным в госпитале, в 1944 году «лечила» деревья в Михайловском саду, раненные осколками от бомб и снарядов. С такой, так сказать, «практикой» нет ничего удивительного, что я стала врачом. В 1956 году мой муж Федюшин Борис Сергеевич закончил Ленинградскую Военно-воздушную Академию имени Можайского и мы уехали к месту его назначения «на точку» в Казахстан.
Коллектив больницы, где я работала, состоял из врачей и медицинских сестер, освобожденных из лагерей в 1955-1956 годы. Эти женщины являлись членами семьи изменника Родины (ЧСИР): их мужья были расстреляны в 1937 году, дети воспитывались в детских домах. Заведующая терапевтическим отделением больницы Варвара Адамовна (фамилию, к сожалению, не помню) закончила медицинский факультет Берлинского университета, с 1937 года по 1955 год она была в лагере. Эта уже не молодая женщина, седая, всегда подтянутая, в белоснежном халате, была очень доброжелательным человеком, высококвалифицированным терапевтом. Нередко в ординаторской Варвара Адамовна спрашивала врачей симптомы того или другого заболевания и не получив ответа, читала нам целую лекцию. В терапевтическом отделении была идеальная чистота, если ей что-то не нравилось, а медсестра оправдывалась отсутствием санитарки. Варвара Адамовна очень спокойно говорила ей: «Корона, милочка, с Вас не свалится, если вы возьмете в руки веник». Каждую неделю
Варвара Адамовна проводила в больнице политинформацию, очень заинтересовано рассказывала о жизни в стране. В ее отношении к людям никогда не было озлобленности. Трудно было поверить, что эта женщина перенесла ужас 1937 года.
Медицинские сестры, многие из которых были репрессированы в молодом возрасте, не получили медицинского образования. Видимо в лагере была такая практическая школа, что уменья, необходимого для медицинской сестры, у них было более чем достаточно. Они выхаживали больных, находили доброе слово и к казахам, и к украинцам, и к русским, и к немцам – всем народам, населявшим в те годы Казахстан. Как-то в назначении я указала введение препарата внутримышечно, а он вводится внутривенно. На следующий день медсестра, тактично, стараясь не обидеть меня, сказала мне о моей ошибке и тут же предупредила, чтобы, я не волновалась, так как она ввела лекарство по инструкции, а исправила только назначение.
Мы уезжали в отпуск в Ленинград и я спросила своих сотрудников, что им привезти. Многие просили что-нибудь из посуды: в те годы в Казахстане не было ни продуктов, ни посуды. Пожилая медсестра, которая уже несколько лет ждала разрешения после реабилитации вернуться в Ленинград, попросила привезти ей пластинку Р. Глиэра «Гимн великому городу», что я с удовольствием сделала.
В Казахстане через четырнадцать лет после блокады я узнала о существовании, так называемой, «Ленинградской статьи». Это случилось, когда у меня на приеме была молодая женщина с маленькой девочкой. Я поинтересовалась, ходит ли ее дочка в «очаг». Моя пациентка внезапно спросила «Не из Ленинграда ли я?». «Только в Ленинграде называли детский сад «очагом» еще с довоенных времен» — пояснила она. Я ответила утвердительно. Она оживилась: « Я тоже из Ленинграда, только я сидела много лет в лагере по Ленинградской статье: продавала на рынке мыло, сваренное из человеческих костей». Ходили слухи, что во время блокады пропадали люди. Не умирали от голода, не погибали от бомб и снарядов, а пропадали. Верить в эти слухи было страшно. Рассказ этой молодой женщины подтверждал их верность. Чувство голода или страх перед смертью собственного ребенка, наверное, могли заставить человека совершать звериные поступки. Главный врач нашей больницы закончил ординатуру по инфекционным болезням в Москве и приехал в Джезказганскую пустыню к маме, освобожденной из лагеря.
Казахстан в те годы — это не прекращающаяся эпидемия желтухи, брюшного тифа, бруцелеза. Дизентерия косила местное отделение, военнослужащих и самих медиков. Бывало, что кто-то из врачей пытался жаловаться на нездоровье, на что главврач обычно говорил: «Надо, друзья, работать» и приговаривал: «Я сам не успеваю штаны одевать».
Я работала в инфекционном отделении. Знаний не хватало, книг не было. Мой друг детства Гарик Заславский (Григорий Иосифович Заславский — профессор, доктор медицинских наук) прислал мне учебник с надписью « В дизентерийный глядя зад, не забывай про Ленинград» Мы с мужем не забывали, но до приезда в Ленинград должны были пройти многие годы.
Новое назначение мужа — Астраханская степь сменила Джезказганскую пустыню. Я работала на скорой помощи участковым терапевтом в районной больнице.
Как-то я шла по участку, а бабушка из окна мне прокричала: «Аркадьевна, спасительница ты наша, ты все ходишь и ходишь, а мы все мрем и мрем». Назвав меня спасительницей, она, по видимому, хотела сделать мне приятное. Я ходила к ее мужу, у него был рак мочевого пузыря, ходила еще к четверым больным с онкологическими заболеваниями. Как правильно и умно сказала почти безграмотная пожилая женщина! Я ходила к этим больным через каждые 2-3 дня. Они меня ждали, а я только делала им инъекцию наркотика, и на этом мое лечение заканчивалось. Я помню этих больных и сейчас.
Но кого-то и удавалось спасти. Это были дети, у которых было тяжелое отравление ядовитым атропиносодержащим растением – пасленом. Он в изобилии рос в нашем районе. Также ни одна зима не обходилась без отравления целых семей угарным газом. Всех этих больных я встречала, продолжая ходить по участку. Воспоминания о них греют душу.
1970 г. — эпидемия холеры. Ежедневные подворные обходы, на все вызовы к больным, особенно с дисфункцией кишечника, выезжали в противочумном костюме с бутылями сулимы (мыть руки). Иногда в такой экипировке подходили к больному, а он испуганно объяснял свой недуг: «Моя съел много свеклы или лука, вот и «разруха»». В нашем районе случаев холеры не было.
В шестидесятые годы уже прошлого века отмечали 25-летие Дворца пионеров. Я получила от Людмилы Михайловны значок, посвященный этому юбилею. В памяти возникает: блокадная зима 1943 года Людмила Михайловна привела девочек из нашей школы во Дворец пионеров, в комнату, заваленную таблицами и чучелами птиц. Мы привели комнату в порядок, и Людмила Михайловна возобновила работу секции юннатов. Во дворец пионеров стали приходить ребята. Они выращивали картошку, там, где сейчас центральная клумба у входа в главное здание Дворца. Тот значок я до сих пор храню.
«Я вернулся в свой город, знакомый до слез» (О. Мандельштам)
Новое назначение мужа: Москва или Ленинград. В Москву переводили мужа с повышением в должности, даже с предоставлением квартиры.
Решение нами было принято почти сразу: в Ленинград, домой, к родным и друзьям. Мы приехали в Ленинград, в мой многострадальный дом с сыном и дочкой. Я показала им стену дома №1 по Владимирскому проспекту из белого кирпича и заплатку из красного кирпича, куда в 1943 году попал артиллерийский снаряд и не взорвался. Показала нишу в стене на лестнице, куда во время бомбежки запихивала тетя Маруся своих мальчиков и меня. В 1971 году у меня еще было много осколков, немецкие губные гармошки и перочинные ножички, котелки — все это мне дарили раненые в 1943 году.
В Ленинграде я работала врачом-терапевтом. Не могу не написать об одном случае: бригада врачей приехала в дальнее село Ахтубинского района. Фельдшер вызывает больных на прием, называя специализацию врача: хирург, невропатолог. Ко мне – никто не идет. Выхожу. На телегах, под телегами сидят и лежат больные, спрашиваю их: «Кто к терапевту?». Тишина. Вдруг голос: «Дочка, а «терапевка» – то, что лечит?». Отвечаю: « Голову, сердце, живот, руки, ноги». Все хором: «Вот мы его и ждем».
В 80-е годы я работала в медикосанитарной части. Когда 9 мая отмечали День Победы на работе, то всегда вспоминали годы войны. Я рассказала стихотворение, которое в госпитале в 1943 году на концертах художественной самодеятельности декламировала маленькая девочка –дочка начальника госпиталя, где работала моя мама. Многие раненные приходили с трудом: на костылях, перевязанные вдоль и поперек, в гипсовых повязках, с завязанной гипсовой головой, даже с завязанными глазами. Они не успевали прийти к началу концерта, поэтому я занимала им места и была постоянным зрителем. Стихотворение это я помню до сегодняшнего дня. Главный врач нашей медсанчасти удивленно смотрит на меня и говорит: «Я та самая девочка, которая рассказывала это стихотворение. Мой папа — начальник госпиталя». После этого все сотрудники с радостью подняли рюмки за победу и встречу однополчан.
В 80-е годы в дни снятия блокады во Дворец культуры им. Ленсовета приглашали бывших во время блокады школьников, ребят из детских домов, учеников ремесленных училищ. Людмила Михайловна приводила и нас, как она когда-то говорила, «моих юннатов», из нашей школы и из Дворца пионеров. Во Дворце культуры им. Ленсовета показывали отрывки хроники о жизни города в дни блокады, выступали руководители города, работавшие в Ленинграде в то время. Однажды на сцену вышел пожилой мужчина, небольшого роста, худенький. Объявили, что это заведующий отделом торговли города Ленинграда в годы блокады — Андреенко. Я не могла оторвать от него глаз. Во время блокады, когда по радио объявляли о снижении нормы хлеба, а потом о повышении, то всегда это объявление заканчивалось словами: «Заведующий отделом торговли города Ленинграда — Андреенко». Нам с бабушкой казалось, что Андреенко самый главный человек в городе и от него зависит, сколько мы будем получать хлеба. Да и представляла я его совсем другим, во всяком случае, не таким худеньким. Одну фразу из его выступления я запомнила: «Вы последнее поколение, которое помнит блокаду» — сказал он, обращаясь к нам. Мне эта фраза тогда не понравилась, как-то не хотелось верить, что мы последнее поколение. В те годы мы совсем себя так не ощущали.
В 1986 году Людмила Михайловна привела нас, своих бывших учеников, во Дворец пионеров на 50- летний юбилей Дворца. Однажды я попала в больницу. Вдруг открывается дверь и в палату входит Людмила Михайловна. Ей 80 лет, мне 62 года. « Зиночка, что случилось?» — говорит она. Соседи по палате меня спрашивают: «Кто эта женщина?». А я отвечаю: « Это моя учительница, которая в годы войны, когда кругом была смерть, помогала детям думать о светлом, сохраняя им тем самым жизнь».
Третьего апреля 1994 г мы с Лерой (Валерией Романовной Заславской, кандидатом технических наук) были на 50-летнем юбилее городской станции юных натуралистов в Озерках. В эти годы научным руководителем станции была Добрецова Наталья Владимировна – кандидат наук, доцент РГПУ им. А.Н.Герцена — дочка Людмилы Михайловны – та, маленькая девочка, которая бегала с нами в Михайловский сад в перерывах между тревогами. В Озерках мы увидели красивую, ухоженную руками ребят зеленую территорию. Плодовые деревья, клумбы с цветами, на стендах научные работы юных натуралистов, множество грамот, полученных ребятами. Ничто не напоминало землю, изрытую осколками от бомб и снарядов. Только у входа на станцию была глубокая яма, которая периодически заполнялась водой во время дождей, а рядом камень с надписью: «Воронка от бомбы 1942 года».
В 2012 году Наталья Владимировна пригласила Леру и меня на 75-летие Дворца пионеров. В зале бывшие ребята, занимавшиеся в секции юннатов в разные годы. Это были ученики учеников Людмилы Михайловны. У меня хранятся две фотографии: Людмила Михайловна со своими учениками в день 50-летия Дворца пионеров и Наталья Владимировна, много лет, работавшая заведующей натуралистическим отделом во Дворце Пионеров со своими учениками.
В 2012 году мы: Наташа, Лера и я тепло вспоминали нашу учительницу в день ее столетия. Я называю уже солидных людей: кандидата педагогических наук и кандидата технических наук по именам так, как обращалась к нам Людмила Михайловна с 1942 года всю жизнь. Заметки на полях
Дуранда, жмых, шрот – остатки семян масленичных культур после выжимки из них масла, применение – корм для скота. В книге Бурова «Блокада день за днем» сказано, что 18 октября 1943 года артиллерийский снаряд разорвался на Владимирском проспекте возле дома №13, по-видимому, мы в это время шли по Пролетарскому переулку и несли аквариум с лягушкой.
В акте Ленинградской городской комиссии о преднамеренном истреблении немецко-фашистскими варварами жителей Ленинграда от 1945 есть упоминание о бомбежке 19 сентября 1941 года: дома № 12 и 14 на Стремянной улице были разрушены пятью фугасными бомбами. Думаю, что это те, впервые виденные мной дома, пострадавшие от бомбежки.
Санкт-Петербург
2014 год
Рисунки Юли Голоушиной
комментариев 5
Добавить комментарий
Для отправки комментария вы должны авторизоваться.





































6/02/2019 19:46:53
«Рецепт» маминого «разносола»
Просматривая публикации на сайте клуба, посвященные блокаде, я обнаружил публикацию «Моя блокада». Автор: Федюшина Зинаида Аркадьевна. Автор публикации училась в той же школе, что и я (№ 218 в доме 13 на улице Рубинштейна) и в то же время. Так, что, возможно, мы даже встречались. В разделе «Блокадные „разносолы“» автор описывает необычные «продукты», которые ели ленинградцы (столярный клей, олифу и т. д.). В нашей семье тоже был необычный «разносол», который создала моя мама. Ниже приведен его «рецепт».
Мне в феврале1942 исполнилось 12 лет. Моей сестре было 17 лет. Поэтому я очень хорошо помню начало войны, начало блокады и суровую зиму 1941- 1942 года. Это был самый тяжёлый период времени блокады. В декабре 1941 на карточки не выдали ничего, кроме хлеба – мне и моей сестре по 125 грамм. Маме – 250 грамм. До Нового Года я ходил в школу. Занятия проходили в бомбоубежище дома Толстого (дом 15/17 на улице Рубинштейна). В начале января нас свели на Новогодний праздник, который проводился в каком-то помещении, по-моему, на канале Грибоедова. Я рассказывал об этом эпизоде на сайте МемоКлуба (https://memoclub.ru/author/zalkin/) в комментарии к публикации «Замечательные жители и гости Толстовского дома». Автор: Колотило Марина Николаевна.
В городе не было воды. Жители нашего дома брали воду в прорубе на Фонтанке. Не работала канализация. Не было электричества. Общественный транспорт не ходил. Снег не убирали. Были жуткие морозы – до 36°. Поэтому маме, которая работала парикмахером на заводе «Вперёд», расположенном на Васильевском острове (километров в 10 от нашего дома на улице Рубинштейна дом 9/3), разрешили в её рабочей комнатке повесить занавесь, за которой мы спали на полу.
На заводе, кроме изготовления артиллерийских снарядов, шили военные полушубки и ушанки из овечьих шкур. Маме очень повезло. Ёй удалось получить немного оставшихся после пошива обрезков шкур. Эти обрезки спасли жизнь и мне, и моей сестре. Технология приготовления еды из этих обрезков была такая. Сначала состригали шерсть с них. Затем на буржуйке обжигали остатки шерсти на коже. Потом кожу вымачивали несколько дней в воде, чтобы удалить запах нафталина. И, наконец, так обработанные кусочки кожи мололи на мясорубке. Полученный фарш жарили. Остатки жира в коже позволяли получить из этого фарша съедобные шкварки. Хотя запах нафталина удалить, конечно, полностью не удавалось.
Исай Аронович Цалкин
31/03/2019 15:26:34
Уважаемый Исай Аранович!
С удивлением узанала, что Вы прочитали мои воспоминания о блокаде.
Спасибо! я ведь писала только для детей и внуков, в память о моих маме и бабушке,
которые спасли мне жизнь в годы блокады. Ваша мама придумала еду из совершенно несъедобных продкутов.
Такое могла придумать только мама, рядом с которой были голодные дети, и она спасла
своих дочку и сына. Мы действительо учились с Вами в одной школе номер 218 на Рубинштейна 13 в 1942г.
я в третьем классе и во время тревог были в одном бомбоубежище в Толстовском дому на Рубинштейна 15/17.
Еще раз спасибо. Будтье здоровы.
14/09/2023 14:25:29
Здравствуйте, Зинаида Аркадьевна!
Я с огромным волнением прочитал Ваши строки! Дело в том, что моя семья, дед, бабушка, отец и его брат жили до войны и во время блокады в доме 13 по улице Рубинштейна! Если смотреть на двор — справа парадная, 4 этаж, квартира 12. Я родился в 1964 году и жил, соответственно, в этой же квартире, до 1971 года. Я знаю, что у нас в конце кухни была заколоченная дверь, которая вела как раз в Школу! Были слышны голоса детей! Мне рассказывали, что давно, до войны, мой прадед, его звали Николай Арсентьевич Ефимов, был директором школы, от нее он и получил эту квартиру. Но, как я понимаю, школа номер 218 была основана только в 1942 году…Что же за школа была у нас за стенкой!? … Кстати, в Первый класс я пошел тоже в школу № 218, но она располагалась в переулке Марии Ульяновой, между Рубинштейна и Фонтанкой…
17/09/2023 18:07:34
Уважаемый Андрей, здравствуйте! Рада была получить от Вас комментарии на мою книжку ‘моя блокада’ . Вы узнали о нашей школе на улице Рубинштейна дом 13 в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Мне очень приятно, что вы молодой человек (во всяком случае для меня) заинтересовались жизнью детей и учителей, которым пришлось жить и учиться в городе Ленинграде во время немецко-фашистской блокады 1941-1944 год. Наша школа стала работать 4 мая 1942 года. Я её закончила в 1950ом году. В интернете вы можете прочитать, что в 1863 году был построен Доходный дом (Рубинштейна 13). В 1934 году в доме было организована фабрично-заводская школа №21, а потом и другие школы. Возможно ваш прадед — Ефимов Николай Арсентьевич был директором одной из этих школ. 18 мая 1943 года в дом напротив школы попал снаряд. В своей книге я подробно описала этот день. Я его не забуду до моих последних дней. Но сколько тогда было убито и ранено ребят я узнала только совсем недавно, когда прочитала на мемориальной доске, которая висит в театре Зазеркалье. убито 8 человек, а ранено 54. Если у Вас будет желание, я вам каким-нибудь способом с удовольствием подарю свою книгу «Моя блокада».
С Уважением Зинаида Аркадьевна.
17.09.2023
18/09/2023 22:34:43
Уважаемый Андрей! Рада была получить от Вас комментарии на мою книжку “Моя блокада” и узнать о нашей школе на улице Рубинштейна в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Мне очень приятно, что вы молодой человек (во всяком случае для меня) заинтересовались жизнью детей и учителей, которым пришлось жить и учиться в городе Ленинграде во время немецко-фашистской блокады 1941 т- 1944 гг.
Наша школа стала работать 4 мая 1942 года. Я её закончила в 1950-ом году. В интернете Вы можете прочитать, что в 1863-ем году был построен этот Доходный дом. в 1934-ом году в доме была организована Фабричная Заводская школа номер 218, а потом и другие школы. Возможно, ваш прадед Ефимов Николай Арсентьевич был директором одной из этих школ. В 1943 году 18 мая, в дом напротив школы попал снаряд. В своей книжке я подробно описала этот день. Я ведь его не забуду до моих последних дней. Но сколько тогда было убито и ранено ребят, я узнала только совсем недавно, когда прочитал на мемориальной доске, которая висит в театре ”Зазеркалье”: убиты 8 человек и ранены 54 человека. Если у Вас будет желание я вам каким-нибудь способом с удовольствием подарю свою книгу “Моя блокада”.
С Уважением, Зинаида Аркадьевна!