Одесские истории без хэппи энда
Уважаемый читатель, то, что я написал,
книгой в общепринятом смысле не является,
это просто длинное письмо, а точнее 39 писем,
адресованных Ане и Матвею, нашим с Викой внукам.
Надеюсь, что они дойдут до адресата своевременно.
Гибель одного отдельно взятого человека — всегда чья-нибудь личная трагедия. Гибель тысяч и миллионов — всего только статистика. Потому, что время затаптывает не только тысячи и миллионы, но целые цивилизации. История — чертовски хладнокровная штука. Отдельно взятый человек, эксклюзивная судьба без остатка растворяются в том, что, собственно говоря, составляет живую ткань истории — бесконечно сменяющие друг друга события. Так хорошо закрученный кинематографический сюжет затмевает исполнителей главных ролей. В этом жестокая правда жизни и истории.
Олег Губарь, украинский журналист
Оглавление
1. Дорогие Анечка и Матвей
2. Три сестры
3. Дядя Або и дядя Марк
4. Почему в Одессу?
5. Тучи над городом
6. Квартирный вопрос
7. Как они жили
8. Тобольск
9. Три сестры под одной крышей
10. Путешествие по Сахаре
11. Как дед паял сережки
12. Идейные разногласия
13. Сосед
14. Дед, Торгсин, карта СССР
15. Мы с Тамарой ходим парой
16. Папина Одесса
17. Бабушка Сока
18. Одесская кухня
19. Одесситы на Крестовском острове
20. Война
21. Дневники. Одесса с 22 июня по 16 октября 1941 года
22.Тикама
23. Мамина война
24. Блокада
25. Лёвина война
26. Холокост в Одессе — румынский вариант
27. Глава, которой не должно было быть
28. Одесса – русский Марсель
29. Как страшный сон
30. Рухнувшие надежды
31. Как быстро и эффективно уничтожить 6 миллионов евреев
32. Возмездие
33. Бобина война
34. Послевоенные годы
35. Псков – конечная остановка
36. Лев – горькие годы
37. Моя тётя Вера и мой дядя Або
38. Мама, другая жизнь
39. Заключение
* * *
1. Дорогие Анечка и Матвей
Дорогие Анечка и Матвей, я опять обращаюсь к вам с надеждой, что эти записки попадут когда-то к вам в руки и вы прочтете их. Возможно, они будут напечатаны на бумаге, и вы начнете перелистывать страничку за страничкой, знакомясь с событиями, которые происходили 100 или даже более лет тому назад, или Вы будете их читать на экране какого-нибудь крутого гаджета, который мне сейчас даже трудно представить. Может быть, он будет выглядеть как модные очки, или он будет вмонтирован в красивую сережку, висящую на Анином ушке, а, может быть, и на мочке у Матвея, передающим содержание и фотографии моих записок прямо в ваши головы. А что? Всё возможно, ведь это будет лет через 20, не раньше, потому что только лет в 30-40, а я это знаю по себе, возникает жгучее желание обратиться к истории своей семьи, выяснить, кем были ваши прабабушки и прадедушки или даже пра-прабабушки и дедушки, открыть альбом со старыми фотографиями или прочесть старые письма на пожелтевших листах бумаги. К сожалению, не всегда это возможно: альбомов нет, письма потеряны, а родных, к которым можно было бы обратиться с вопросами уже и нет, увы, опоздали.
Не исключаю, что вы мысленно скажете: «Ну, зачем дед это все написал, к чему это нам, мы же их совсем не знаем, все это было так давно и так далеко от нас?» Ответ на этот вопрос совсем простой: «Не было бы их, не было бы и вас». Так мы все устроены, что в каждом из нас есть частичка тех, кто жил задолго до нашего рождения, но передал нам толику себя, и она отразилась в нашем характере, душе, сердце, цвете глаз и форме носа, и, в конечном счете, в нашей судьбе. Вы можете возразить — возможно, не всё в них могло быть хорошее, и не все вы бы хотели наследовать от них. И будете правы, поэтому, тем более, будет полезно узнать и от некоторого «наследства» отказаться.
Вы можете спросить меня, а как ты все это писал, откуда ты брал информацию, кто тебе все это рассказывал. Может ты всё это придумал, нафантазировал? Нет, конечно, не придумал. Многое из того, о чем я тут пишу, мне рассказывала моя мама и её родственники, с которыми мне довелось общаться в детстве и позже, когда я встал взрослым и появилось желание задавать им вопросы. Кроме того, сохранилось несколько очень важных писем, которая моя мама берегла всю жизнь, и я их увидел только после её смерти, но больше всего информации о различных периодах жизни моих родственников я подчерпнул в мемуарах, которые по моей просьбе написал Борис, двоюродный брат моей мамы, за несколько лет до своей смерти.
Жизнь моих родственников проходила на фоне важнейших исторических событий, которые происходили в России, а затем уже в СССР, начиная с конца 19 века и по наши дни. Они были не просто их наблюдателями, равнодушными зрителями, а, напротив, часто активными участниками многих трагических событий и катаклизмов, происходивших вокруг них. Об этих событиях и о том окружении, обстановке, в которых они жили и, которые, конечно, влияли на их поступки и их сознание, я тоже кратко упоминаю. Ссылки на источники, которые использовал при этом, буду давать в тексте и, если захотите, с ними можно будет ознакомиться. Ну и, наконец, сохранилось достаточно много фотографий, которые послужили иллюстрацией к написанному. Интересно, что на оборотной стороне некоторых фото писались небольшие размером в несколько строчек послания, тоже проливающие свет на события тех лет. Вот все эти материалы позволили мне взяться за этот опус. Надеюсь, что он будет интересен для вас.
2.Три сестры
В конце 90-х годов 19 века в город Борисоглебск из Минска переехала семья Бориса Нейштадта, коммивояжера по профессии. Чем он торговал — неизвестно. Его супруга умерла, когда дети, а их было пять человек, были еще маленькими. Их отец больше не женился, часто бывал в разъездах, и ведением дома занималась условная «няня» с широким кругом обязанностей и прав, о которой кроме факта её существования ничего не известно, так же, как и какие-либо подробностях жизни этой семьи в Борисоглебске. Расспросить об этом у одной из его дочерей, Веру Борисовну, с которой мне выпало счастье общаться в течении 20 лет, с 1948 по 1968 годы, у меня ума не хватило. В дальнейшем моем повествовании речь пойдет о судьбе только трёх сестер этой семьи, т.к. четвертая сестра Груня и младший брат Володя покончили жизнь самоубийством, они оба вместе отравились. Что послужило причиной этого поступка не известно. Им было по 14-15 лет. Произошла эта трагедия в самом начале 20-го века, время было тревожное, среди подростков и молодежи царили декадентские, часто упаднические настроения, предположить можно, что угодно. Вообще эта тема была табу в их семье, и узнал я об этой истории, только когда стал совсем взрослым. «Поседела в одну ночь» — трудно представить, что такое в жизни возможно, но именно это и случилось с их сестрой Верой. Возможно, не буквально за ночь, но очень быстро, за несколько дней.
Остались три сестры. Старшую, мою будущую бабушку, звали Софья, среднюю – Вера, младшую — Мария или Манюшка. Старшая родилась в 1893, средняя в 1896 и младшая, примерно, в 1900 году.
Родились все они в Минске, где у их бабушки по материнской линии была аптека. Надо понимать, что аптека во второй половине 19-го века имела мало общего с современной аптекой, в которую мы приходим покупать таблетки, капли или мази в фирменных коробочках с подробными инструкциями, изготовленными на фармацевтических предприятиях. В те времена аптека была, фактически, небольшой химической лабораторией, маленькой лавкой по производству лекарств, в которой работали один или пара провизоров, так называли тогда специалистов по изготовлению лекарств и снадобий, использующих свои знания и опыт, часто передававшийся из поколения в поколение. Они растирали в ступках различные химические элементы, травы, корешки и другие природные ингредиенты, смешивали их в определенных пропорциях, растирали, растворяли, превращая их в конце концов в лекарство, которое выписывал врач. Насколько они помогали больным в то время, мне не известно, но выбора не было, лечились тем, что было. Воображение рисует небольшие комнаты с низким потолком, слабо освещенные керосиновыми лампами, где на столах, полках стоят различные колбы, реторты и мензурки, заполненные жидкостями всех цветов радуги; низкие, высокие и пузатые бутыли, флаконы и пузырьки темного стекла с бумажными «чепчиками» на горлышках, а за застекленными дверками приземистых шкафов выставлены ряды белых керамических, плотно закрытых банок с латинскими надписями, возможно с ядами, которые в те времена использовали в небольших количествах для изготовления некоторых микстур и мазей.
Часто владелец аптеки совмещал в себе одновременно и хозяина, и продавца, и провизора. Понятно, что он, как правило, должен был иметь соответствующее образование, ну, если не университетское то, по крайней мере, специальное училище. Владение аптекой тогда, да и в настоящее время, было делом достаточно прибыльным, поэтому, взяв в жены дочку владельцев аптеки Борис Нейштадт, скорей всего, получил приличное приданное и смог создать и содержать семью, которая впоследствии стала большой. В каком году и вследствие какой причины коммивояжер принял решение переехать со всей своей семьёй из Минска в Борисоглебск, мне не известно, не уверен, что и моя мама знала об этом. Об этом никогда не говорила и тётя Вера тоже.
Странное было решение, если учесть, что Минск был в самом начале 20-го века достаточно крупным российским городом. Он вошел в состав России в 1793 году, а до этого принадлежал Литве. Еврейское население западных областей России еще долго называли «литваками». Только в Минской волости в конце 19-го века проживало 350 тыс. евреев, а в самом Минске они составляли 52% населения. Надо не забывать, что еще с момента присоединения Польши указом Екатерины II, на территории современных Беларуси, Украины, Польши и Литвы с момента вхождения этих земель в состав России была установлена так называемая «черта оседлости», за пределами которой евреям запрещалось постоянное жительство, а на их жизнь накладывалось много запретов. Они ограничивали образование детей и молодежи, содержали перечень профессий, которыми евреям нельзя было заниматься, предписывали проживание только в небольших городках-местечках, запрещали проживание в сельской местности, перекрывая таким образом возможность занятия сельским хозяйством. Исключение делалось для нескольких категорий, в которые входили, например, купцы первой гильдии, лица, сумевшие получить высшее образование, мужчины, отслужившие в российской армии, ремесленники, имевшие патенты и некоторые группы евреев в других губерниях России, в частности, например, бухарские евреи. Естественно, подобные ограничения и притеснения не могли не вызывать недовольство и протест, особенно у молодого еврейского населения, среди которых было много способных, талантливых и активных молодых людей.
Именно в Минске была создана и оказала огромное влияние на российское революционное движение в целом еврейская социалистическая партия, известная под названием «Бунд», т.е. Союз. Из её рядов вышло большое количество известных российских большевиков и меньшевиков, оставивших впоследствии глубокий след, зачастую кровавый, в истории создания советского государства. К сожалению, история знает немало примеров, когда одно насилие, совершаемое из самых лучших побуждений, рождает в итоге другое и часто еще более жестокое и безжалостное. Желание сделать людей счастливыми насильственным путем всегда кончается трагедией.
Минск и другие белорусские города были родиной очень многих, всемирно известных людей, таких, например, как первый президент Израиля Хаим Вейцман, Нобелевский лауреат Шимон Перес, гениальные художники Марк Шагал и Хаим Сутин, и многих, многих других.
Ситуация с положением евреев стала ухудшаться в конце 19-го века, когда начались первые погромы в черте оседлости. А ужасы революции пятого года и Первой мировой войны только ухудшили положение еврейского населения. В 1903 и 1905 годах в Гомеле и Орши прошли жестокие еврейские погромы, в каждом из которых погибло несколько десятков человек. Эти события имели большой резонанс, как в самой России, так и за рубежом. Правительство было вынуждено провести даже несколько судебных процессов, некоторые участники погромов были осуждены, но большая их часть осталась безнаказанной.
Можно предположить, что в этих условиях Борис решил переехать в более безопасное место и, самое главное, вырваться за пределы черты оседлости. Кроме того, одной из возможных причин, как мне кажется, было желание дать своим детям хорошее гимназическое образование.
Борисоглебск, который он выбрал, как раз и находился за чертой оседлости. Очевидно положение и образование Бориса Нейштадта удовлетворяли тем требованиям, которые позволяли еврейской семье выбрать для проживания Борисоглебск. Кроме того, что, наверное, имело для него большое значение, жизнь в этом небольшом старинном русском городе должна была быть гораздо дешевле, чем в Минске. Будучи коммивояжером, занимаясь, очевидно, организацией и поставкой различных товаров, сырья или продуктов Борис Нейштадт, безусловно, имел широкий круг знакомств, связей, много разъезжал, бывал во многих российских городах и, наверное, выбрал для проживания Борисоглебск совершенно осознанно, имея уже представление об этом городе и о тех возможностях, которые он может перед ним открыть.
Город, вернее поселение, было основано еще в середине 17 века, название Борисоглебск получил только в начале 18 века в честь князей Бориса и Глеба. Удачное расположение города привлекло внимание Петра I. Вокруг города раскинулись густые леса со строевым лесом, пригодным для строительства кораблей, сам город стоял на возвышении, внизу которого река Хопер впадала в реку Ворона. Идеальное место для строительства речных флотилий. После смерти Петра строительство кораблей резко сократилось, но барки и баржи строить продолжали, они стали необходимы для сплава в порты Азовского и Черного морей пшеницы, муки, хлеба и другой сельскохозяйственной продукции, которую свозили в Борисоглебск со всей Воронежской области и других прилегающих районов. Город быстро стал большим перевалочным пунктом. Активная торговля требовала притока капитала, и в городе начали открываться филиалы крупнейшие банков России, появились филиалы бирж и различных зарубежных фирм.
В конце19-го века в Борисоглебске проходит международная выставка-ярмарка, а в начале 20-го века в городе действуют женская и мужская гимназии, техническое училище, работает библиотека, общественные клубы, летний кинотеатр, книжные магазины. В общем, можно сказать, что Борис Нейштадт выбрал удачное место для работы и жизни. Как я уже писал выше, никаких подробностей жизни его семьи в Борисоглебске я не знаю, за исключением того, что они пережили две трагедии: смерть матери и самоубийство сестры и брата, а также того, что Софья, Вера и Мария закончили гимназию и получили хорошее светское образование.
В поисках информации о жизни еврейского населения в Борисоглебске я неожиданно для себя натолкнулся в Интернете на работу, даже можно сказать на научное исследование, под названием «Борисоглебск — спасительная пристань», которое провели старшеклассники одной из Борисоглебских школ.
Думаю, что будет уместным поместить тут небольшие отрывки из их работы:
«В энциклопедии Брокгауза и Ефрона в статье «Борисоглебск» (т. 4, с. 827) мы читаем:
«…по переписи 1897 года жителей свыше 30 тыс., евреев 378, из коих 354 жили в городе Борисоглебске. Имеется молельня, возникшая в 1865 г. с разрешения местной власти; в 1897 г. по доносу была закрыта, но в том же году открыта с ведома министра внутренних дел на началах, установленных для петербургской синагоги; в первые годы молились по ашкеназскому ритуалу, позже по сефардскому. На кладбище первые могилы относятся к 1845- 1850 гг., однако старожилы помнят несколько более ранних могил…»
Как же появились первые евреи в Борисоглебске?
Первый путь– это войны в России, которые начинались всегда с Запада, где и проживали евреи. Вполне возможно, что первые евреи, попавшие в Борисоглебск, бежали от Наполеона вглубь России из Польши, как это произошло в 1815 и в 1841 годах.
Второй путь связан с торговлей. Именно с купцами могли прибыть и обосноваться в конце XVIII века в Борисоглебске первые евреи, а отсюда и первые захоронения на кладбище в первой половине XIX века.
И, наконец, третий путь. Первую «заботу» о евреях в России проявила Екатерина II, проведя на карте империи черту оседлости. Мы знаем, что пересечь черту оседлости было сложно, кроме как во времена войн. Но в любые времена любому государству всегда нужны были талантливые, грамотные, инициативные, преданные и честные люди. Нужны были такие люди и России, поэтому приток евреев из-за черты оседлости в империю был вполне естественен.
В 1865 году в городе была открыта синагога. К сентябрю 1915 года в Борисоглебск прибыло 1020 евреев-беженцев: скорняки, кожемяки, портные, жестянщики, сапожники, зубные техники и др. Вся эта масса пошла работать на свечные, салотопные и кирпичные заводики, бойню, паровые и водяные мельницы, железнодорожные мастерские, пивоваренный и чугунолитейный заводы.
Основная масса евреев-беженцев ютилась на частных квартирах у жителей города и у евреев-старожилов, плотно заселявших с конца XIX века исторический центр города. Особенно плотно был заселен Кривой переулок – это семьи Руссов, Бельферов, Пасковеров, Иоффе, Рабиновичей и других. В этом квартале звучали еврейские песни, речь, а из полуэтажа дома 28 по улице Конторской были слышны и молитвы – там вплоть до 1930-х годов располагалась синагога».
Насколько я знаю, сестры Нейштадт не исповедовали иудейскую религию, не были религиозными еврейками, т.е. формально они не были иудеями, т.к. именно по признаку веры в Российской империи отличали евреев от других национальностей и народов. Все ограничения, в частности на места проживания, касались только евреев исповедующих иудейскую религию, поэтому достаточно большая часть евреев, как правило интеллигенция, врачи, адвокаты, крупные торговцы и банкиры принимали православие. Такие евреи назывались выкрестами, но надо сказать, что это открывало им двери далеко не во все государственные учреждения и профессии, особенно с приходом на престол Александра III, который не скрывал своего антисемитизма.
С другой стороны, в России с дальних времен в её центральной части существовало несколько районов, где в селах проживали русские люди, предки которых приняли иудаизм или были по своему мировоззрению близки к нему. Они соблюдали все писанные и неписанные правила и требования иудейской религии, отмечали еврейские праздники, изучали тору и посещали синагоги, которые, как правило, располагалась в домах, выглядевших как обычные русские избы. Их в России называли «субботники». Несколько поколений русских иудеев, светловолосые Абрамы и голубоглазые Сары сохраняли, не смотря на все трудности и отчуждённость, верность иудейской религии на долгие годы.
Я никогда не слышал от тёти Веры о посещении ею в молодые годы синагоги и, тем более, об изучении или хотя бы знании Торы. При их жизни в Борисоглебске, Одессе и, тем более, в Ленинграде еврейские праздники со скрупулезным выполнением всех правил и традиций, предписываемых иудейской верой, не отмечались, хотя конечно о них знали, и в еврейские праздники, не помню уже в какие, тётя Вера готовила что-то из еврейской кухни: фаршированную рыбу или фаршированную куриную шейку, бульон с кнейдлахами — такими большими шариками из муки, смешанной с чем-то еще, и приправленными топленым куриным жиром и жареным на нём луком. Поверьте мне на слово, все это было очень вкусно. (Надо сказать, что многие рецепты еврейской кухни проникли во многие национальные кухни мира, в том числе и в русскую.) Не следуя нормам иудейской религии Борис Нейштадт и его семья, тем не менее, были наверняка частью еврейской общины, которая в Борисоглебске, как следует из исследований школьников, существовала.
Изучая городские архивы, школьники определили, что в начале ХХ-го века в Борисоглебске было много евреев-врачей, работавших в городской больнице, а также имевших частную практику, аптекарей и инженеров, служивших на железной дороге и на заводах города. В своем отчете ребята приводят их имена и фамилии.
Таким образом, можно уверенно предположить, что у трех сестер был круг общения со сверстниками, детьми Борисоглебской еврейской интеллигенции, которые тоже учились в гимназиях или училищах. Очевидно, что учили в гимназиях хорошо, много времени уделяли изучению русского языка и литературы. Сужу по тому, что моя мама рассказывала, что в их одесской квартире было много книг, в основном собрания русской классики, а тетя Вера, сколько помню её, говорила и писала очень грамотно, знала много русских сказок, много читала и очень любила Чехова, особенно его рассказы.
Кстати, о Чехове. Надо сказать, что в поведении сестер Нейштадт, в манере их общения в семье и со знакомыми, в разговорах и интонациях не было ни капли той местечковости, которая была присуща подавляющему количеству евреев, родившихся и проживших всю свою жизнь в маленьких городках (местечках), зажатых чертой оседлости. Замкнутость пространства, в которой жили еврейские семьи, как правило очень многодетные и крайне бедные, малограмотные, с психикой, формируемой с детства религиозными догмами, приводила к тому, что они часто вырастали закомплексованными и малообразованными людьми, хотя те, кому все же удавалось получить образование, становились зачастую известными в России и мире людьми, подтверждая, что любой народ талантлив в своей основе. Между собой многие из них общались на идише, который во многом сродни немецкому языку, а с окружающими на смеси русского и украинского языка, от чего их речь была малограмотна, изобиловала жаргонными словечками, со странными для русского уха необычными интонациями, которые при всей их необычности, придавали еврейской речи очень своеобразную окраску, позволяя вкладывать в неё ироничность и присущий, пожалуй, только евреям, печальный юмор. «Смех сквозь слезы», он облегчал евреям их нелегкую жизнь. Эту особенную интонацию местечковой еврейской речи, часто в карикатурном, утрированном виде напропалую использовали и используют до сих пор в рассказах, юморесках, пьесах и кинофильмах авторы средней руки, наделяя ею присутствующие там персонажи еврейской национальности. К сожалению, это стало распространенным штампом, простым способом мгновенно обозначить национальную принадлежность своих героев, хотя героями или главными действующими лицами они в этих произведениях почти никогда не были, в лучшем случае чудаковатыми, но добрыми и даже иногда мудрыми портными, часовщиками или ювелирами.
Жизни этих неунывающих людей, стойких к испытаниям, выпадающим на их долю, готовыми прийти на помощь друг другу, было посвящено творчество писателя и драматурга Шалом-Алейхема, писавшего на идише, а также на русском языке и иврите в XIX-XX веке. Его книги изданы в переводе на десятки языков, а его пьесы ставятся во многих театрах мира крупнейшими режиссёрами.
Надо еще отметить, что замкнутость жизни, этническая ограниченность выбора при образовании семейных пар среди населения этих местечек, приводило к появлению браков между молодыми людьми близких по крови, а это иногда вело к генетическим нарушениям у их потомства. Плохие условия жизни, скудная еда способствовали возникновению болезней и отклонениям в их физическом развитии. Черта оседлости калечила людей и нравственно, и физически.
Конечно, сестрам Нейшдадт повезло, они никогда не жили в этих условиях, получили хорошее образование, не испытывали особой нужды, и их сознание и души формировались вне религиозных устоев и традиций. Все три сестры, особенно Софья и Вера, были стройными, с прекрасными волосами, правильными чертами лица, а их носы с небольшими горбинками, как у древнегреческих красавиц придавали им определенную изюминку.
Думаю, вы обратили внимание на название этой главы — «Три сестры». Уверен, что слышали о пьесе А.П. Чехова с таким названием, возможно смотрели её в театре, или хотя бы знаете, о чем она. Начнем с того, что многие исследователи творчества Чехова полагали, что прототипами героинь этой пьесы в какой-то мере стали три сестры: Анна, Анастасия и Наталия Гольден, еврейками по национальности. Позволю себе привести маленький отрывок из прекрасной книги Дональда Рейфилда, профессора Лондонского университета, «Жизнь Антона Чехова», фактически подробной биографии Антона Павловича, написанной на основе большого количества документов, никогда с такой полнотой в российских изданиях не представленными. Вот, что он пишет о знакомстве Чехова и его братьев с этими московскими дамами.
«Благодаря литературе чеховский круг общения стал намного шире. Его пригласили сотрудничать с журналом «Зритель», выходившим в Москве иногда раз в неделю, а иногда и чаще. Этот печатный орган на Страстном бульваре обеспечил работой четверых братьев Чеховых и стал для них своеобразным клубом: Александр служил здесь секретарем редакции, Коля подрабатывал иллюстратором, Антон регулярно поставлял юмористические рассказы, а Миша забегал после школы и делал переводы.
Лучшие свои графические работы Коля создал, в «Зрителе», где его любили не только коллеги, но и секретарша Анна Гольден, прожившая с ним семь лет в гражданском браке. В жизнь Антона вошла тема «трех сестер», и в последующее десятилетие братьев Чеховых свяжут отношения по крайней мере с пятью сестринскими трио, но Анна, Анастасия и Наталья Гольден оставили в жизни братьев особенно глубокий след. Анастасия и, как и её сестра Анна, работала секретарем и тоже была в гражданском браке. Только младшая из сестер, Наталья, была не замужем. Встретив Антона, она полюбила его на всю жизнь, в то время как его ответных чувств хватило лишь на два года. Анна и Анастасия были статными блондинками, которых недоброжелатели окрестили кличками «кувалда номер один» и «кувалда номер два». Наталья Гольден на них не походила — это была хрупкая девушка типично еврейской наружности с вьющимися темными волосами и носом с горбинкой. О происхождении сестер Гольден известно лишь то, что они были из семьи евреев-выкрестов. В начале восьмидесятых годов эти женщины с несколько скандальной репутацией накрепко привязали к себе и Антона и Николая. Отец Чехова, Павел Егорович, евреев уважал и отмечал еврейскую Пасху столь же истово, как и православную. Незамужняя Наталья Гольден возражений у него не вызывала, равно как и то, что Антон иногда ночевал у нее дома».
Тема трех сестер интересовала Чехова всю жизнь. Вот, что пишет Д. Рейфильд: «Пьесу «Три сестры», которая уже давно сложилась у Чехова в голове, предстояло перенести на бумагу. Её сюжет затрагивал в душе Антона сугубо личные струны: после сестер Гольден, Марковых, Яновых, Линтваревых и Шавровых Чехову стало казаться, что три сестры, как мотив волшебной сказки, будут вновь и вновь возникать в его жизни».
Конечно, нельзя искать полного совпадения в жизни и судьбе трех сестер Нейшдадт, переехавших из Минска в Борисоглебск с героинями пьесы «Три сестры», сестрами Прозоровыми — Ольгой, Машей и Ириной, тоже переехавшими из Москвы в небольшой провинциальный российский город и мечтающими уехать их него. Хотя некоторые внешние черты их семей совпадают: они тоже в раннем детстве потеряли одного из родителей — отца, а в жизни их младшего брата Андрея тоже много тяжелых и мучительных страниц. Также, как и Ирина, младшая из сестер Прозоровых, трагически потерявшей близкого человека, останется незамужней и Манюшка Нейштадт. Но не эти внешние совпадения вызвали у меня ощущение общности мыслей, переживаний и душевных порывов героинь пьесы Чехова с реальными сестрами Нейштадт. В этой пьесе, как и в остальных пьесах А.П. Чехова, отсутствует явная внутренняя интрига, яркие события и, тем более, увлекательная сюжетная линия. Это скорей пристальное наблюдение автора за жизнью своих героев, внимательное прислушивание к беседам и монологам, в которых раскрываются их характеры, внутренние проблемы, нравственные и любовные переживания, которые неразрывно связаны с событиями, происходящими вокруг них, вселяющими в них беспокойство и тревогу. Именно эти особенности Чеховской драматургии и привлекают до сих пор театральных режиссеров всего мира, которые ставят их, открывая в них все новые и новые смыслы.
Могу предположить, что, еще учась в старших классах гимназии и особенно после окончания её Софьей и Верой, а это период времени с 1908 по 1911 годы, сестры начали задумываться о своей дальнейшей судьбе, о месте в жизни, о дальнейших планах, о необходимости обустраивать свою самостоятельную жизнь. Окружающая российская действительность, как и пьесе Чехова, становилась все более тревожной и мрачной, а их девичьи мечты конечно же связывались с ожиданием любви, встречей с интересными молодыми людьми и семейной жизнью. Беспокойство усиливалось тем, что их планы и надежды, так же как и у чеховских сестер, слишком контрастировали с тоскливой и скучной реальностью, окружавшей их. Мрачный фон жизни сестер Прозоровых усиливается в пьесе осенней ненастной погодой, темными вечерами, заревом пожаров, а тревожное душевное состояние сестер Нейштадт отголосками революции 1905 года и ощущением надвигающегося общественного болезненного неспокойствия. Достаточно узкий круг общения в городе и понимание невозможности уехать из провинциального Борисоглебска в условную «Москву», снижали шансы обустройства их личной жизни и получения какой-либо общественно значимой профессии. Для коммивояжера средней руки, Бориса Нейштадта, содержать трех взрослых дочек становилось все сложнее и сложнее, а уж обеспечить их дальнейшее образование, он просто был не в состоянии. Жили они в Борисоглебске в то время очень и очень скромно. Иллюстрацией этого может служить воспоминание тети Веры о том, что когда кто-нибудь из девочек заболевал и поднималась температура, для заболевшей покупался, на зависть здоровым, один лимон или один апельсин. Никто не знает, как бы сложилась дальнейшая судьба моей будущей бабушки и двух её сестер, если бы усилившийся шторм российской и мировой жизни не прибил к борисоглебскому берегу два небольших судёнышка, скорее две шлюпки с двумя молодыми Дядями, которые позволили им покинуть берега небольшой русской реки Хопер и доплыть до берегов аж Черного моря.
3. Дядя Або и дядя Марк
У меня нет цели интриговать вас и долго оставлять в неведении относительно этих двух новых персонажей моего повествования. На этих воображаемых шлюпках в Борисоглебск прибыли, причем не сговариваясь и в разные годы, двое еврейских юношей: один с необычным именем Або или полностью Або Петрович Эйдельберг, а второй — с более распространенным именем Марк или полностью Марк Абрамович Рутенштейн. Первым, очевидно, появился в Борисоглебске Марк, т.к. ставшая его супругой Софья родила первенца, сына Льва, в 1912 году, когда ей было всего лишь 19. А позже там появился Або, это следует из того, что Вера, став его женой, родила своего первого ребенка, тоже сына, только в 1926 году, когда ей уже исполнилось 30, что по тем временам было достаточно поздно для материнства.
Как, зачем и когда оказался Марк в Борисоглебске, я не знаю. Точных фактов его биографии известно немного. Среди них: дата его рождения — 1879 год и место рождения — город Елецк Липецкой области. В этих фактах не приходится сомневаться, т.к. его дочь, ставшая впоследствии моей мамой, указывала их в анкетах, заполняя их при поступлении на учебу, на работу и в других случаях в своей жизни, и в которых ошибаться в те времена не рекомендовалось, особенно в тех пунктах, где сообщались данные родственников. Важной страницей в биографии Марка, стало его участие, если не прямо в революционных событиях, то точно в политической партии или движении, т.к. эта деятельность в какой-то момент привела к необходимости его отъезда заграницу, т.е. эмиграции. А где предпочитали жить в эмиграции молодые революционеры и члены запрещенных в России партий, когда их начинали преследовать? Правильно, в Швейцарии или, на худой конец, в Германии. Иммигрантов из России в конце 90-х годах XIX века в этих странах было очень много. Именно там велась их бурная политическая деятельность, там проходили конференции и съезды многочисленных партий, печатались газеты и листовки. О том, что мой дед в молодые годы был членом еврейского социалистического союза «Бунд», я узнал очень поздно, где-то в начале 2000-х годов, от маминого двоюродного брата Бориса, речь о котором пойдет позже. По каким-то причинам о членстве деда в «Бунде» мама мне никогда не рассказывала. Хотя объяснить это можно довольно просто: советская власть и, прежде всего, её карающие органы типа ЧК, НКВД и МГБ с большим подозрением относились к советским гражданам, если они указывали в анкетах, что состояли в какой-либо партии помимо ВКП(б) и, более того, если это членство скрывалось и обнаруживалось не из анкеты, а по доносу. Поэтому «революционное» прошлое и членство в «Бунде» моего деда, у которого отношения с большевиками были неровные, часто противоречивые, в семье не афишировались, просто было известно, что он несколько лет жил в Швейцарии, где выучился на мастера-часовщика, что подтверждалось красочной грамотой-дипломом с печатями и размашистыми подписями, висящей, как рассказывала мне мама, в рамке на стене в их одесской квартире. Там в Швейцарии или, возможно, уже в Германии, он приобрел профессиональные навыки ювелира и гравировщика.
Я думаю, что после возвращения в Россию, мой дед все же разочаровался в социалистических идеях, что потом подкрепилось в его сознании отношением советской власти к нему самому и ему подобным ремесленникам, которые зарабатывали себе на хлеб своим ремеслом, своими собственными руками, никого не эксплуатируя, но пролетариями не считались. Тем не менее несколько своих молодых лет он отдал идеям демократии и социализма, нашедших широкое распространение в России, безусловно очень привлекательных и понятных не только рабочим и крестьянам, но и значительной части образованной российской интеллигенции, включая и широкие еврейские массы, подвергавшиеся не меньшим притеснениям и жестокой эксплуатацией, а в плане унижения человеческого достоинства даже и больше, чем российский пролетариат. Конечно, ограничения и тяжелые условия жизни еврейского населения в черте оседлости не могли не вызывать нарастающего недовольства, иногда доходившего до отчаяния. Среди еврейских рабочих и ремесленников, по крайней мере грамотных, стали появляться активисты, проводиться собрания. В результате в начале 1890-х годов в западных областях Российской империи стали возникать различные кружки и даже партии еврейских ремесленников и промышленных рабочих, пополняемые представителями еврейской интеллигенции. В самом конце 90-х годов в Вильно под руководством известных еврейских политиков был создан еврейский социалистический союз или «Бунд», что на идише и значило «Союз».
Википедия даёт такое его описание: «Бунд был лево-социалистической партией, выступавшей за демократию и обобществление средств производства, и следовал традициям демократического марксизма. Бунд выступал за национально-культурную автономию для восточноевропейского еврейства, создание светской системы просвещения, поддерживал развитие культуры на языке идиш. Члены Бунда верили, что благодаря этому евреи не ассимилируются (не растворятся среди русского населения) и сохранят свою культурную обособленность. Бунд был антирелигиозной и антисионистской партией и выступал против эмиграции евреев в Палестину»
Подобные цели и программа Бунда, не могли не привлечь к нему слои еврейской интеллигенции и особенно образованной молодежи, которые проживали за чертой оседлости в относительно приемлемых социальных условиях, но, при том, хорошо понимали степень унижений и притеснений, которые испытывали на себе местечковые евреи. Очевидно, что и Марк Рутенштейн, мальчик из «приличной еврейской семьи», воодушевленный примером ветхозаветного Моисея, освободившего евреев от их многовекового египетского рабства, решил внести свою лепту в дело освобождения евреев от царского гнета. В условиях царской России Бунд действовал как подпольная организация, и лишь после революции 1905 года партия добилась некоторой легализации, но до этого, в начале 20-го века, в западных областях России прокатились еврейские погромы, что привело к применению Бунд’ом методов вооруженного сопротивления вплоть до проведения терактов, но вскоре руководство Бунда подавило тенденцию к «организованной мести». Вот, возможно, в этот период преследования членов Бунда Марк Рутенштейн и был вынужден уехать в Швейцарию, но заниматься политикой там не стал, а пошел учиться на мастера-часовщика. На кого же еще учиться в Швейцарии, как не на часовщика? Можно не сомневаться, что Швейцария произвела на него большое впечатление. Прозрачные, как акварели, швейцарские пейзажи, домашняя чистота улиц и порядок в городах, доброжелательность и вежливость окружающих, терпимость к инородцам, все это не шло ни в какое сравнение с российскими жизненными реалиями, с Ельцом, провинциальным, но при том не самым захолустным российским городом. К его удивлению выяснилось, что оказывается можно вполне прилично жить, не устраивая революций и государственных переворотов. К швейцарским впечатлениям добавился и опыт непродолжительной жизни в Германии, оставивший в его голове ощущение еще большего порядка и абсолютной немецкой точности и, как ему тогда показалось, порядочности. Через несколько десятков лет ему пришлось осознать, как чудовищно он ошибался.
В каком году он вернулся в Россию и чем занимался в своем родном Ельце точно не известно, но, скорее всего работал по своей специальности — ремонтировал часы, что вероятно давало приличный доход. В начале века часы все еще были если не предметом роскоши, то дорогим аксессуаром точно. Редко кто из простого народа имел часы, тем более карманные, на цепочке и с крышкой. Они стоили дорого, также как и их ремонт. Механические часы и хронометры были сложными устройствами и для их починки требовались знания, опыт и профессионализм, а такие качества во все времена оплачивались хорошо. Неизвестно и то, как Марк Рутенштейн попал в Борисоглебск и как познакомился со старшей из сестер Нейштадт. Если посмотреть на карту России, то бросается в глаза, что такие города, как Ярославль, Борисоглебск, Москва, Тула и Елец находятся, практически, на одной вертикальной линии, протянувшейся с севера на юг, соединенные железной дорогой. Во всех этих городах были еврейские общины или сообщества, содержащие примерно 500-800 человек в каждом городе, за исключением, возможно, Москвы. Многие еврейские семьи, наверное, были между собой знакомы, посещали вместе синагогу, общались, приезжали друг к другу в гости или по делам, а если учесть, что Елец находился от Борисоглебска на расстоянии 350 км, то можно легко предположить, что Марк Рутенштейн бывал в Борисоглебске и мог быть представлен в семье Нейштадт.
Софья родилась в 1893 году, она закончила гимназию, помогала своим младшим сестрам, к моменту их знакомства ей было лет 17-18, не более, а Марку — около 30, пора было обзаводиться семьёй. Софья был стройной, красивой девушкой и, на мой взгляд, очень привлекательной.
Фотографии молодого Марка не сохранилось, но, судя по фотографиям, сделанных уже в зрелом возрасте, и словам моей мамы, он был высокого роста, хорошо сложен, с правильными чертами лица и наверняка в свои молодые годы не был лысым, как на фотографии. Наши с мамой длинные носы не от него. Нельзя исключать, что отец невесты, коммивояжер, в свою очередь бывал в Ельце, мог знать семью жениха и способствовать знакомству Марка со старшей дочерью. Они, безусловно, могли понравиться друг другу с первого взгляда. Подробностей знакомства и, тем более, отношений молодых людей не известно, но тот факт, что в 1912 году у них родился сын, говорит, что свадьба состоялась быстро, не позднее 1911 года. Причем сын Лев родился уже в Одессе, а вот как они там оказались — есть тайна за семью печатями. Думаю, что озвученная перспектива уехать из Борисоглебска в Одессу, город мечты для многих в то время, была существенным аргументом в решении Софьи согласиться с предложением руки и сердца Марка. Сбывалась мечта многих провинциальных барышень, как и героинь пьесы Чехова, вырваться из провинциального быта и тоски, и уехать туда, где, казалось, жизнь будет совершенно иной — интересной, счастливой, где все будет прекрасно. «В Москву, в Москву!».
Настало время вернуться ко второму еврейскому юноше — Або Петровичу Эйдельбергу. Как это ни странно, но Або в свои молодые годы тоже был причастен к борьбе с «царским режимом», но если свободомыслие Марка и естественные порывы молодости сделать мир лучше и справедливей со временем развеялись, то у него все было всерьёз, и занимался он не расклеиванием листовок и организацией антиправительственных манифестаций, а реально принимал участие в Гражданской войне, носил кожаную тужурку, а на ремне висел револьвер в брезентовой кобуре. Эти подробности запечатлелись в памяти моей мамы, когда ей было лет пять-шесть; в этом возрасте некоторые яркие и необычные события и обстоятельства запоминаются крепко и надолго, так что думаю, так оно и было — и кожаная тужурка, и револьвер на поясе. В те времена эти вещи были однозначно атрибутами людей, близких к различным очень суровым организациям типа ЧК и им подобным.
Эти страницы биографии Або Петровича подтверждаются еще одним фактом, заслуживающим доверия. Через много лет, где-то в конце 40-х годов пришло время оформлять ему пенсию по старости, которая, в отличие от всех простых советских граждан, могла бы у него быть не обычная, а персональная, которая полагалась людям, имевшим особые за слуги перед советской властью, но этого, к большому его сожалению, не случилось. Вот, что писал в своих воспоминаниях его сын Борис: «Папа мой был на него очень обижен, т.к. Лева потерял документы, подтверждающие его службу в Ревкоме, на границе, в таможне и в особом отделе в годы гражданской войны. Они были необходимы для оформления персональной пенсии». Лёва был его племянником, родным братом моей мамы. Он в начале войны ушел на фронт, документы почему-то хранились у него дома и после войны они пропали, хотя Лева долго уверял дядю, что найдет их, но так и не нашел. Близость Або к особым органам советской власти подтверждаются и рядом косвенных фактов, о которых я напишу позже.
Познакомились Або и Вера очевидно не позднее 1914 года, еще перед Первой мировой войной, не позже. Тогда Вере было лет 18 и у неё были темно каштановые волосы, они еще только-только начали седеть после трагедии с её братом и сестрой, которая произошла, примерно, в этом же году. На фотографиях, вставленных в изящные фарфоровые рамочки, Або и Вера — молодые, красивые, даже, можно сказать, окрыленные. Подобные парные фотографии с таким милым оформлением заказывали и дарили друг другу в те времена, конечно, не просто так, а несомненно в знак взаимной симпатии, любви и верности, и они бережно хранились в семье всю жизнь. (Так получилось и с этими фотографиями, они попали мне в руки только тогда, когда уже никого из их семьи в живых не осталось.) Если Вере во время их знакомства было не более 18 лет, то ему уже стукнуло 24 года и тоже была пора жениться.
 
Або и Вера |
Прическа, которую мы привыкли видеть на старинных фотографиях студентов, писателей или поэтов, дерзкий взгляд, усиленный явно орлиным носом, модная рубашка с заколкой, красивый галстук и, наконец, пенсне, которое уж без сомнения выдает нам, что симпатичный молодой человек явно интеллигент и не из бедной еврейской семьи. Никаких подробностей его жизни в тот период, кроме того, что он родился в городе Чебаркуль, недалеко от Челябинска, я не знаю и спросить больше уже не у кого. Я общался с ним в Ленинграде, начиная с малых лет, не менее 25-ти лет вплоть до его смерти, нелепой и преждевременной в 1972 году.
Его характер, взгляды и жизненные позиции становились мне понятны по мере моего взросления и расширения картины мира, частью которой был дядя Або, человек, безусловно, очень неординарный и противоречивый в своих взглядах и поступках. Это был высокий, поджарый мужчина с прямой спиной и уверенным взглядом. Было понятно, что испытания, выпавшие ему в жизни, не раздавили, не сломали, а только ожесточили его душу и закалили характер. Ожесточенность внешне не проявлялась, но явно проглядывалась в его словах, оценках событий, происходящих вокруг, и в отношениях к людям. Он никогда не уклонялся от резкой оценки поведения или поступков знакомых и даже родственников, если они, по его мнению, этого заслуживали, и одновременно был внимателен и щедр, к тем, кого любил, не проявляя этого на словах или внешне. Могу предположить, что подобный характер и некоторые страницы его биографии, прежде всего в его молодые годы, определили семья и город, где он родился, вернее та обстановка, в которой он вырос. И еще, у него были невероятно сильные кисти рук и пальцы, что было связано с его профессией, но об этом позже.
Город Чебаркуль был основан в 1736 году как военная крепость на границе Российской империи для защиты юго-восточных границ России. Название города и озера, на котором расположен город в переводе с тюркского языка означает «красивое озеро». Населяли его в основном казаки, вольнолюбивые и храбрые по своей природе люди. Чебаркульские казаки отличились в русско-японской войне, а потом и в первой мировой. В окрестностях Чебаркуля добывали золото и другие ископаемые. Город быстро рос, сюда и в близи лежащие города стали приезжать люди разных национальностей и конфессий из центральной России, среди которых было много тех, кто видел возможность жить в этих местах более свободно и самостоятельно, а некоторые просто скрывались в нем от разного рода преследований, в том числе и преступники разного толка. В Чебаркуле, отдаленном от центра и царских чиновников, жить было явно свободнее и безопаснее, чем в России и тем более в её западных областях. Стало появляться в нем и еврейское население.
Первые иудейские общины появились в Челябинске и Чебаркуле в 1840-х годах и были представлены выпускниками кантонистских школ. Начиная с 1827 года по приказу Николая I начался принудительный призыв на воинскую службу детей евреев, но не поголовно, а по 10 мальчиков, достигших 12-ти лет, с каждой тысячи взрослого населения. Происходило это с многочисленными нарушениями и жестокостью. По закону от призыва освобождались сыновья раввинов и купцов, а также семьи, где был только один мальчик, или мать была вдовой, но на практике многие состоятельные евреи откупались от призыва, и в кантонистские школы зачисляли мальчиков в основном из бедных семей. Их учеба и военная служба сопровождались насильственным обращением в христианство и неприкрытыми издевательствами. В школе кантонистов еврейским детям запрещалось переписываться с родными, говорить на родном языке и молиться, у них отбирали и сжигали молитвенники и религиозные атрибуты (тфиллин, цицит). Главным предметом наряду с военной муштрой, обучением грамоте и счёту был «закон Божий». Устоять против обращения в христианство могли немногие, в основном дети старшего возраста. После зачисления в армию евреи-кантонисты служили 25 лет, а отслужившие полный срок евреи-солдаты («николаевские солдаты») и их потомки получали право жить в любой губернии на всей территории Российской империи.
Несколько десятков тысяч евреев-кантонистов участвовали в Крымской войне и воевали храбро. Вот какая-то часть таких отставников, людей не робкого десятка, много повидавших и умевших постоять за себя, и оказались в Челябинске и Чебаркуле, вследствие чего во второй половине XIX века отставные солдаты и унтер-офицеры составляли большую часть еврейского населения города, в 1894 году их насчитывалось уже 686 человек. Несравненно более свободные, чем еврейское население в южных и центральных районах России, накопившие за годы военной службы некоторые средства, они сумели организовать небольшие предприятия, торговали зерном и чаем, открывали аптеки, магазины и различные мастерские — слесарные, мебельные, шляпные, магазины готового платья. Наиболее успешные в своем деле имели возможность и прилагали все усилия, чтобы дать своим детям приличное образование. Отношение к иудейской общине в городе было спокойное, даже уважительное, что проявилось в благожелательном согласовании документов в городской управе и в губернском управлении, дозволяющих строительство в 1902 году в Чебаркуле синагоги, красивое каменное здание которой сохранилось до настоящего времени и в начале 90-х годов 20-го столетия было возвращено еврейской общине, и вновь стало синагогой.
Скорее всего, в такой еврейской семье и родился в 1888 году мальчик Аба, унаследовав от отставного николаевского солдата уверенность в себе, стать, целеустремленность и умение постоять за себя и других. Уверен, что получил он и приличное образование. У него был четкий, уверенный почерк, писал без ошибок и был достаточно эрудированным человеком.
На мой взгляд важным звеном в жизни Або, было то, что во время гражданской войны, в июле 1918 года части Красной армии выбили белогвардейцев из Чебаркуля и заняли город. Ему было уже 30 лет и, возможно, именно тогда и определилась судьба Абы на последующие несколько лет. По доброй воле, а возможно и выбора особого не было, но он оказался в рядах Красной армии. Но до этого, как я уже писал выше, Або успел очутиться в Борисоглебске. Как он познакомился с Верой Нейштадт – неизвестно, и нет никаких догадок на этот счет, а вот почему он приехал, и, возможно, даже жил какое-то время в Борисоглебске, предположить могу. Дело в том, что Або был скорняком, причем первоклассным мастером этой довольно редкой профессии. Скорняк — это мастер по подготовке, подбору, подгонке и раскрою уже ранее выделанных шкурок пушных зверей перед пошивом шуб. Особенно ответственна роль скорняка при подготовке шкурок ценных пород пушных зверей — соболей, песцов, бобров, куниц, каракуля и др., одно неверное движение острого, как бритва, скорняцкого ножа, по форме напоминающего тонкую дольку апельсина, и шкурка испорчена. Чтобы исключить складки и морщины, шкурки предварительно необходимо растянуть и закрепить булавками на широкой доске, вот потому у скорняков всегда очень сильные руки и пальцы. Этому делу он мог выучиться, еще живя в Чебаркуле, где было много высококлассных портных, которые шили зимнюю меховую одежду: тулупы, шубы и пальто, подбитые мехом — зимы на Урале бывали весьма суровые.
В Борисоглебске же, вернее в деревнях и поместьях около него, широко занимались овцеводством и выделыванием овечьих шкур, в том числе и каракуля, что в переводе с тюрского языка обозначает «черное дерево», для изготовления которого идут шкурки совсем молодых ягнят. Их мех в этом возрасте очень плотный с мелкими и волнистыми завитками. В отличие от обычных шкур овчины или цигейки, достаточно дешевых и доступных, шубы из каракуля были очень дорогими и шились по заказу очень состоятельных дам. Известно, что в Борисоглебске были хорошие скорняки, вот по каким-нибудь скорняцким делам и приехал сюда молодой скорняк Або. Конечно, кто-то познакомил его с семьёй Нейштадт, на улице в то время с девушками не знакомились. Старшая Софья уже успела выйти замуж, младшая Манюшка была гимназистской и о замужестве ещё не думала, оставалась средняя — Вера. Вот её сердце и поразил, наверное, красивый, видный, стройный и явно не бедный, уже не мальчик, молодой мужчина по имени Або.
4. Почему в Одессу?
В самом деле, почему три сестры Нейштадт одна за другой оказались в Одессе? Сначала, еще до начала Первой мировой, Софья с мужем, вернувшимся из Швейцарии и Германии, затем Вера, тоже с мужем, который хоть и вернулся с Гражданской войны, но кожаную тужурку и револьвер еще не снял, а потом и Манюшка, младшая незамужняя сестра, которую выписали старшие сестры, после того, как они обосновались и обжились в Одессе.
Желание вырваться из провинциальной рутины, свойственное многим в среде интеллигенции небольших российских городов, особенно романтическим «чеховским» барышням, ждущих своих принцев и мечтающих о новой и интересной жизни? Наверное — да, но скорее всего Одессу выбрали не сестры, а мужья Софии и Веры. Вернувшись из Европы с швейцарским дипломом часового мастера, знаниями и опытом ювелира, Марк понимал, что провинциальный Елец вряд ли обеспечит его заказами и доходами, на которые он рассчитывал. А вот Одесса, зажиточная, веселая и франтоватая была, по его мнению, подходящим местом для успешной жизни и работы. Владельцев часов и золотых украшения там уж точно было много, впрочем, как часовщиков и ювелиров, но далеко не у всех был швейцарский диплом, на минуточку.
Чем руководствовался Або, выбрав Одессу, точно я не знаю. Возможно, это было не его решение, а просто приказ тех командиров, под началом которых он служил, а может потому, что недалеко от Одессы, в Крыму жили его родственники, братья и сестры. Но времена, в которые Марк и Або принимали свои судьбоносные решения были совершенно разные, абсолютно непохожие, а Одесса 1911 года резко отличалась от Одессы 1920-го, когда в ней появились Або и Вера Эйдельберг.
Чтобы понять, что представляла Одесса в те времена, совершим небольшой экскурс в её увлекательную историю.
Во время Русско-турецкой войны внимание Александра Васильевича Суворова, который продвигался с русской армии в направлении города Бендеры, привлекла небольшая крепость Хаджи-Бей на берегу Черного моря. В результате короткого боя она была захвачена передовым отрядом корпуса генерала И.В. Гудовича. После Ясского мирного договора по предложению А. Суворова было решено построить новую крепость, и уже через год в 1794 году по указу Екатерины II на самом западе новоприобретённой территории Российской империи — Новороссии — был заложен первый камень, а точнее забита первая свая в основание города Одессы.
Проект постройки города, порта и новой крепости императрица поручила голландскому военному инженеру Францу де Воллану, который сполна воплотил при этом принципы древнеримского градостроительства. Город возводился под руководством вице-адмирала И. Де Рибаса, а затем герцога (дюка) де Ришелье, графа Ланжерона, архитектора Маразли, графов Воронцова и Строганова, самых талантливых и преданных России государственных деятелей. Эту сухую справочную информацию не могу не дополнить короткой цитатой из дневника Юрия Олеши, талантливого советского писателя и драматурга, написавшего по сути то же самое, но с душой и поэтическим талантом:
«Я детство и юность провел в Одессе. Этот город сделан иностранцами. Ришелье, де Волан, Ланжерон, Маразли, Диалегмено, Рапи, Рено, Бонифаци — вот имена, которые окружали меня в Одессе — на углах улиц, на вывесках, памятниках и оградах. И даже позади прозаической русской — Демидов — развевался пышный парус Сан-Донато. Приморская местность называлась — Ланжерон.
Так мы и говорили:
— Идем купаться.
— Куда?
— На Ланжерон!
Скороговоркой, местным ужасным говором произносится это пышное слово: Ланжерон. Как если бы в Москве говорили: на Зацепу. Между тем Ланжерон не есть название местности, сложившееся вследствие каких-либо природных ее особенностей, этнографических, Ланжерон — целиком на местность перенесенная фамилия французского графа. Вероятно, он был эмигрант французской революции и, служа Екатерине, строил Одессу.
В порту есть набережная, именуемая Деволановской.
Что может быть хорошего в лексике порта, создавшего слова «штимп», «жлоб», «шмара»? Так и слово «Деволановская» звучало для меня полузапретным словом из босяцкого словаря, вроде слова «обжорка». Но однажды, когда прислушался более осмысленно, внезапно в этом слове частица «де» несколько отодвинулась…
Одесса развивалась стремительно и бурно и всего лишь за первое столетие превратилась из маленького, пыльного сельского поселения около турецкой крепости Хаджи Бей в важный морской порт, большой индустриальный город и крупный культурный центр Приморья и всей России. За это столетие Одесса испытывала много различных потрясений, падений и взлетов. Больше всего в середине XIX века Одесса экономически пострадала от последствий Крымской кампании, но приход в 70-х годах к управлению городом новых, грамотных и энергичных специалистов, привлечение инвестиций и зарубежного капитала дали Одессе новую жизнь. Вот что пишет Игорь Губарь в своей книге «100 вопросов за Одессу»:
«Положительным моментом этого переходного (к индустриализации) периода, безусловно, явилось введение нового «Городового положения», регламентирующего систему общественного самоуправления. Новые люди в Думе и Городской управе (по сути в Горсовете и Горисполкоме) методично занялись благоустройством Одессы: в течение двух-трех десятилетий она превратилась в портовый центр европейского уровня. Был пущен днестровский водовод, замощены улицы, проложена система ливневых коллекторов, канализационная система, устроено немало маршрутов “конки» и паровичков, налажено электрическое освещение, создана разветвленная сеть “человеколюбивых заведений» (приютов, богаделен, больниц, ночлежек и т. д.), народных школ, читален, аудиторий, сформированы государственные и частные пароходные компании, проложена железная дорога, соединившая “одесский остров» с российским материком. Параллельно развивался промышленный комплекс. К 1892 году в городе насчитывалось 125 фабрик, 714 ремесленных заведений, 157 заводов, 16 мукомольных и крупяных мельниц, появилось банковское и кредитное дело. Любопытно, что в годы дореволюционной индустриализации Одесса налаживает уже и «вывоз капитала” в отличие от вывоза товаров. Да что там говорить: Одесса даже строит… военные суда (миноносцы) для Черноморского флота!
Это — город! Второй по числу учащихся и студентов в России, с крупнейшим и авторитетнейшим университетом, Высшими женскими курсами, многочисленными научными обществами мирового уровня, великолепными театрами, музеями, библиотеками и даже спортивными сооружениями (велотрек, “роль-палас», скейтин-ринг, ипподром, тир-клуб, два яхт-клуба, гимнастические залы и т. д.). Одесса открывает миру выдающихся ученых, педагогов, литераторов, людей искусства…»
Эта краткая информация характеризует Одессу как промышленный город, дает представление о его развитии и возможностях, но гораздо интереснее для нас представить и понять характер этого удивительного города, те черты, которые придали Одессе такой романтический флер, особый, ничем не похожий дух, характер людей, живущих в нем. Вот, что написано об этом в книге Савицкого:
«До Октябрьской революции Одесса гордилась своим средиземноморским обликом, одесситы стремились походить на европейцев, а разноэтничное языковое многоголосие придавало Одессе сходство с эмигрантским Новым Светом. Исторический ландшафт Одессы также напоминал нечто американское: тот же «город на Холме», «регулярный», искусственно созданный город-«космос» посреди «хляби», естественного «хаоса» — безлюдья колонизируемых, некогда диких степей. Язык города — его архитектура, она основывалась на мягкой «южной» европейской классике, далекой от столичной помпезности и агрессивности. Отдаленность от имперских центров (С.-Петербурга и Москвы), официальный статус не просто губернского города, а иного важнейшего центра, близость к загранице делали из Одессы своеобразную «внутреннюю заграницу». Одесса была не совсем российским городом еще и потому, что русский город развивался не как автономное социальное образование, а только как продолжение вертикали власти. В Одессе формировались европейские элементы самоорганизации, да и сам город выступал оригинальным (непохожим ни на один город Российской империи) историко-культурным урбанистическим пространством.
Одесса одновременно разрушала этноцентрическую ментальность: антропология одесского культурного пространства формировалась на основе взаимодействия и взаимовлияния множества народов и культур — русских, украинцев, поляков, евреев, греков, немцев, армян, молдаван, итальянцев, французов… Общей особенностью части населения города была маргинальность, характерная для оторвавшихся от своих исторических корней колонистов. Одесса была устремлена в будущее и переселившиеся в этот город люди оставили в прошлом старые традиции, семьи, чтобы найти счастье в новом мире».
Молодая семья Рутенштейн тоже надеялась найти в Одессе «счастье в новом мире», когда они в 1911 или в начале 1912-го года появились в Одессе. Надо сказать, что решение было довольно смелое и даже рискованное. За несколько лет до их приезда в Одессу в ней произошло несколько еврейских погромов.
Кровавые январские события в 1905 году в Петербурге, беспорядки в Москве, июньское восстание на броненосце «Потемкин», поддержанное руководством одесской РСДРП, большинство которой составляли евреи, вызвали жестокую реакцию со стороны царских властей. Вспомним хотя бы горькую участь матросов с Потемкина и разгон демонстрантов в Одессе казаками на лестнице, ведущей с Приморского бульвара вниз, в порт, широко известной всему миру по кадрам фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». (Горькая учесть матросов не вызывает сомнения, и разгон демонстрантов тоже, очевидно, был, но не на Потемкинской лестнице. Эти кадры, вошедшие в анналы мирового киноискусства, были придуманы и гениально сняты Сергеем Эйзенштейном и Эдуардом Тиссэ).
Не оставили в стороне и одесских евреев, тучи над которыми стали сгущаться уже к осени 1905 года. В октябре в Одессе произошел самый кровавый погром за всю историю города. Распоясавшиеся погромщики убили более 300 евреев, громили дома и магазины. Еврейская самооборона и еврейские студенты организовали вооруженные отряды и уже в первый же день погрома оказали отчаянное противодействие погромщикам, но городские власти бросили против них войска и даже артиллерию, и самооборона потеряла пятьдесят человек убитыми. Евреев убивали и в районах, примыкающих к Одессе, в поездах, топили в море.
Наступил тяжкий период в жизни еврейства Одессы. В городе ввели военное положение, которое сохранилось до осени 1909 года.
Спустя всего пару лет после этих драматических событий, когда обстановка в городе нормализовалась, молодая пара, ожидавшая уже прибавления в семье, приехала в Одессу. К этому времени облик Одессы уже, практически, приобрел хорошо известный всем вид. Вся приморская часть города, бульвар, центр были застроены домами современной по тем временам архитектуры, с богато украшенными фасадами и большими квартирами. Для состоятельной публики, крупных чиновников, богатых врачей и адвокатов требовалось комфортабельное жилье европейского уровня.
Завершалась застройка и улиц, примыкающих к центру, тоже привлекательных в смысле своего расположения относительно бульвара и порта. Такой была и Тираспольская улица, которая была даже старше, чем сама Одесса, т.к. служила исстари трактом, ведущим в сторону Тирасполя. Если в центре города были, в основном, 4-х и 5-ти этажные дома, то в конце XIX и начале XX-го веков Тираспольская улица была застроена уютными, 2-х и 3-х этажными домами «с мягкой, южной европейской классической архитектурой». Невысокие здания с красивыми фасадами и кованными решетками балконов, зелень деревьев, отсутствие трамваев, тишина, наличие, как мы говорим сегодня, всей необходимой инфраструктуры и относительно меньшая стоимость аренды жилья привлекали в этот район города одесскую интеллигенцию, университетскую профессуру, врачей и адвокатов.
Вот на этой улице, точнее в маленьком переулке, примыкающем к ней, снял квартиру для своей семьи Марк Рутенштейн, преуспевающий уже, как мне представляется, к этому времени часовщик-ювелир. Абсолютно ничего не известно об этом периоде их жизни. Моя мама родилась только в 1920 году, а уже в 1921 году родители переехали в квартиру в доме на Екатерининской улице. Поэтому очень интересно было бы представить, в какой обстановке они жили на Тираспольской улице целых девять лет, кто и что их окружало, какие вывески они читали на домах, в какие магазины ходили за покупками, где гуляли с сыном Левой, который родился в 1912 году. Это было бы, практически, невозможно сделать, если бы мне не посчастливилось найти в Интернете статью, посвященную истории Тираспольской улицы с описанием всех её домов и перечнем многих жителей, населявших их именно в те годы. Автор статьи, очевидно, краевед и любитель одесской истории Юрий Парамонов при написании её использовал городские справочники, сохранившиеся удивительным образом в одесских библиотеках и архивах, поэтому эти данные заслуживают полного доверия. (В. Пилявский. Здания, сооружения, памятники Одессы и их зодчие. Справочник вся Одесса. Иллюстрированная адресная и справочная книга на 1901 г., «Южная Россия». Путеводитель, справочная книга и календарь И.А. Фефербойма. 1896 г. и другие).
Автор статьи ведет последовательный и подробный рассказ о всех домах по обеим сторонам Тираспольской улицы, сохранившихся до настоящего времени, начиная с дома №1 и заканчивая последним домом №37, помещая их фотографии, уточняя год их постройки с перечнем некоторых жильцов и заведений, в них находящихся. Особенно интересно перечисление фамилий жильцов и рода их занятий. Приведу для примера описание только трех домов, которое дает, на мой взгляд, очень точную характеристику того времени.
Дом №11. Дом постройки конца позапрошлого века. Двор дома богат разными чугунными лесенками, ведущими в квартиры. В дворовых флигелях сохранились чугунные лестницы с оригинальными балясинами перил. В середине 10-х годов прошлого века домом владеет К.О. Граупе. Здесь же была его «Мастерская для отопления разного рода». Часть дома арендовала лечебница доктора Ю.А. Дзюбина. На рубеже веков в здании размещалась типография О.Ф. Буфе. В доме проживал казначей Одесской мещанской управы Иван Михайлович Кренский, оспопрививатель Р.М. Милерман, фельдшер М. Стратонович, преподаватель арифметики Одесского городского девичьего училища А.С. Стратанович. В 1917 году книжный магазин «Светоч» держат Клара и София Абрамовны Коган.
Дом №12. Дом постройки середины позапрошлого века. В середине 10-х годов прошлого века домом владеет Мангуби. Оригинальные ворота ведут во двор дома. В 10-е годы прошлого века в доме проживали женский врач Р.Л. Кауфман-Китроссер, врач Г.М. Волькенштейн, фельдшер Швехвель-Нахамкис, массажист Д.А. Коган, присяжный поверенный П.Э. Сафразов. Здесь же был аптекарский магазин Л.И. Гейликмана. Можно было заказать бетонные работы и устройство центрального отопления у Бруно Фетиша, приобрести в розничной продаже вино у В.Б. Фетиша, торговал обувью М.-Э. Вайнштейн. В этом доме в детстве жил Исаак Бабель.
Дом №16. Угол улицы Кузнечной. Построен в 1912 году по проекту архитектора Ф.Э. Кюнера, о чем свидетельствует табличка на стене дома. В середине 10-х годов прошлого века владелец дома М.М. Мазор. В доме проживали врач Д.П. Фельдман и его брат — зубной врач Ф.П. Фельдман, детский врач С.А.Аганин, учительница белошвейного мастерства Одесского городского девичьего училища С.Д. Измайлова, преподаватель 1-го казенного еврейского училища М.Г. Гайсинский, помощники присяжного поверенного М.А. Шперлинг и А.Д. Нико. Здесь была торговля шинами Т. Гербер, размещались редакция журнала «Врачебно-гигиенический указатель», книжный магазин «Самообразование» кишиневского мещанина Герша Соломоновича Плотничера. Здесь же размещалась и «Первая лечебница практических врачей по всем специальностям». Плата за совет в этой лечебнице составляла 50 копеек, что в те годы являлось довольно крупной суммой».
И так подробно по каждому дому. Теперь с большой долей вероятности можно предположить, что молодая мама водила маленького сына Леву к детскому врачу С.А Аганину, а когда болел зуб, прибегала к услугам зубного врача Ф.П.Фельдмана. Вино покупали в лавке у В.Б. Фетиша, обувь в магазине у М.-Э. Вайнштейн, а книги в магазине «Светоч», который держали Клара и София Абрамовны Коган.
Вполне вероятно, что мой будущий дед встречал на улице и молодого Исаака Бабеля, жившего, правда недолго, в доме №12 в семье торговца сельскохозяйственной техникой. Во время погрома 1905 года, когда Бабелю было 11 лет и его семья еще жила на Молдаванке, от смерти его спасла русская семья, но его дед был убит. Семья уехала в Николаев, где Бабель с большим трудом, преодолевая существующие ограничения для еврейских детей, поступил в коммерческое училище, которое закончил в 1911 году уже в Одессе, куда вновь переехала его семья. В том же году он поступил в киевский коммерческий институт. Таким образом, мой дед мог вполне проходить в то время мимо молодого, 17-него Бабеля, не подозревая, что тот через десять лет станет известным и очень талантливым советским писателем, автором знаменитых Одесских рассказов, но, наверное, и сам Бабель еще об этом не догадывался.
Как жила молодая семья Рутенштейн, чем, кроме работы и воспитания сына, была наполнена их жизнь, общались ли со своими родственниками, оставленными в Ельце и Борисоглебске, — абсолютно ничего не известно. Можно предположить, что жили они, если не зажиточно, то не бедно, это точно. Косвенными доказательствами этого могут быть упоминания моей мамой различных недешевых предметов, украшавших интерьер квартиры на Екатерининской улице в те времена, когда лишних денег на покупку безделушек точно не было: массивная пепельница из малахита с бронзовыми фигурками Красной шапочки и серого волка, фарфоровые вазочки, кашпо, настенные часы и такой, явно недешевый предмет дизайна, как действующая модель локомотива, в который заливалась вода, в топке горел спирт, и он начинал крутить колеса, из трубы валил пар и периодически раздавался гудок. Возможно эта дорогая игрушка была куплена Леве, когда он был еще ребенком. Она сохранилось вплоть до начала войны.
Я не знаю, понимал ли, ощущал ли мой будущий дедушка, «починяя часы» и делая очередные обручальные колечки для какой-нибудь счастливой еврейской пары с Молдаванки или Пересыпи, что спокойная и устроенная жизнь скоро закончится, что через несколько лет, как говорится, почти «на ровном месте» разразится Первая мировая война, а за ней еще более невероятные события, которые перевернут всю Россию, кардинально изменят жизнь миллионов людей, в том числе и жизнь его семьи? Думаю, что нет, как и подавляющая часть населения России, а уж Одессы это точно. Одесса очень долго не могла поверить, что Октябрьская революция — это всерьёз и надолго, надеясь, что все со временем рассосется, а если нет, то что-то можно будет придумать. Далее Савченко пишет: «Город, вокруг которого стали бушевать кровавые страсти, пытался долго их не замечать. Октябрьская революция вошла в «чисто» одесскую жизнь на три месяца позже, чем в Центре, второе красное пришествие случилось на четыре месяца позже, чем в новой, «харьковской», столице.
Городской быт формировал уникальное «одесское самосознание» — чувство особой принадлежности к своему городу, уникальной общности людей, которым свойствен буржуазный оптимизм и прагматизм, юмор и самоирония. В Одессе всегда жили «по-другому», не так, как в империи или в Советской республике. Легче и зажиточнее…
В эпоху революции и Гражданской войны в Одессе постоянно создавались квази государственные образования – то Вольный город Одесса (январь 1918), то Одесская Советская Республика (январь-март 1918), то «Юго-Западный край» под протекторатом французов (декабрь 1918 — апрель 1919). Горячие украинские головы летом 1918-го даже думали провозгласить Одессу столицей Украинской Народной Республики. Окончательное утверждение Советской власти произошло только в феврале 1920 года и воспринималось большинством одесситов, как разрушение их уникального мира. Сакральное и профанное (лишенное святости) в городе было сокрушено, т.е. и храм, и рынок в одночасье закрыты и табуированы.
С основания города организация городского пространства Одессы была связана с морем. Но в 1920-м и море перестало «работать» на город. Такие близкие каждому одесситу границы захлопнулись… «Тут кончалась Россия» (заметил Алексей Толстой), дальше — граница, непреодолимость которой подтверждала представление о загранице как о «загробной жизни» (по образному выражению И. Ильфа и Е. Петрова). После февраля 1920-го одесситы, всматриваясь в морские дали, уже не верили, что когда-либо увидят другие города и страны».
Чтобы понятнее представить себе тот беспорядок и смуту, которые царили в Одессе в течение четырех лет с 1917 по 1920 годы, стоит дополнить, вернее уточнить ту хронологию событий и смены властей, ту немыслимую обстановку в которой должны были существовать одесситы и, в том числе, мои родственники.
Смена властей в Одессе 1917 – 1920 годы:
1. Временное правительство Керенского: до 7 декабря 1917 года.
2. Переходный период — троевластие: с 7 декабря 1917 до 27 января 1918 года, когда действовало одновременно несколько властей:
– Одесская Городская Дума
– Военный Совет,
– Румчерод — Совет Румынского фронта, Русского Черноморского флота и города Одессы.
3. Первый период советской власти (Одесская советская республика): с 17 января до 13 марта 1918 года.
4. Австро-немецкая оккупация: с 13 марта до 26 ноября 1918 года.
5. Центральная Рада — с 13 марта до 30 апреля 1918 года.
6. Украинская держава — с 30 апреля до 26 ноября 1918 года.
7. Переходный период — троевластие: с 26 ноября до 17 декабря 1918 года:
– Польская стрелковая бригада
– Директория Петлюры
– Добровольческая армия
8. Французская интервенция и Добрармия: с 18 декабря 1918 до 5 апреля 1919 года.
9. Двоевластие: 3-6 апреля 1919 года:
– Французы и Добрармия,
– Одесский Совет и Атаман Григорьев.
10. Второй период советской власти: с 5-6 апреля 1919 до 23 августа 1919 года.
11. Добровольческая армия с 23 августа 1919 до 6 февраля 1920 года.
12. Галичане УГА, генерал В. Н. Сокира-Яхонтов: с 6 февраля 1920 по 8 февраля 1920 года.
13. Советская власть: с 8 февраля 1920 года.
Анализировать и разбираться в тонкостях и особенностях каждого периода, слава богу, не моя задача, но хотел бы обратить ваше внимание на пункт № 4 и на пункт №13. В четвертом пункте указано, что семь месяцев в 1918 году в Одессе были австро-немецкие войска, заявившие, что целью оккупации города является защита Одессы от внешней агрессии. На самом деле они грабили украинские земли, вывозили в Германию хлеб, сахар, оборудование, сырье и т.д. Неизвестно, сколько бы этот грабеж продолжался, но осенью 1918 года революция случилась и в Германии, и массовое выступление населения вынудили австро-немецкие войска в ноябре 1918 года покинуть Одессу и вернуться для наведения порядка у себя в стране, но на смену им высадились около 30 тыс. англо-французских интервентов, образовав плацдарм для наступления на войска большевиков. В период присутствия австрийцев и немцев в городе одесситы особой агрессии и каких-либо репрессий не испытывали, тем более, что немцы еще не были заражены антисемитизмом, а среди немецких генералов и офицеров в те годы было немало этнических евреев. Просто выживать и обеспечивать себе пропитание одесситы должны были самостоятельно, военную администрацию эти вопросы не интересовали. Но я могу предположить, что именно в этот период Марк Рутенштейн, еще не забывший немецкого языка и годы, проведенные в Швейцарии и Германии, знавший по своему опыту что немцы культурный народ, решил, что пришло его время, и он сможет продолжить свою работу и даже организовать свой маленький бизнес. Однако, развернуться похоже он не успел, немцы быстро исчезли, но представление что «немцы культурный народ и при них можно работать» в его сознании, из которого еще не окончательно испарились остатки социалистических утопий Бунда, не исчезли. И это была его главная и единственная ошибка в жизни.
На пункт №13 я обратил ваше внимание потому, что, как всем известно, число 13 является несчастливым, в некоторых городах Европы даже дома под этим номером отсутствуют, так вот под этим номером в хронологии смен властей в Одессе обозначено окончательное установление Советской власти. Но, возможно, это просто случайность.
5. Тучи над городом?
В самом начале 1920 года в Одессе оказалась большая часть русской интеллигенции, известные и не очень писатели, ученые, деятели искусств. Кровавый и неумолимый вал Гражданской войны гнал их на юг, внутреннее и душевное непонимание или неприятие большевистской идеологии поставили эту часть российского общества, фактически гордость русской культуры перед выбором: оставаться или покинуть Россию. Читая их дневники, которые они вели только для себя и были в них честны и искренны, можно почувствовать, как мучительно они приходили к своим решениям. Дневников, которые вели в те годы известные и совсем обычные люди, в Интернете можно прочитать великое множество. Вот только некоторые из них.
Владимир Вернадский, ученый и мыслитель с мировым именем, Академик Санкт-Петербургской, а в последствии Украинской Академии наук, писал в дневнике в 1920 году:
«Лично и моя судьба неясна. Ехать в Крым? В Одессу? В славянские земли? В Киев с поляками? Какая странная судьба на распутье. Я очень подумываю об отъезде. Очень тяжело под большевиками. Хочется на большой простор: два года не знаешь, что делается на Западе и в мировой литературе. Это очень чувствует Тимошенко. Сегодня с А.С. Гинзбергом разговор о невозможности работы научной в Екатеринодаре без книг, новых журналов, возможности экскурсий. Но я все-таки, как-то не решаюсь на этот шаг — разрыв с работой в России. А между тем работа в славянских землях даст возможность связать и их с русской культурой. Может быть, окажусь за границей».
Сергей Прокофьев, величайший русский и советский композитор, записал 24 февраля 1920 года:
«Ростов опять занят большевиками. Прямо одно отчаяние с мамой: попасть в город, переходящий из рук в руки. У Дерюжинского мать в Херсоне, а у Анисфельда в Одессе. И на все три города навалилась большевистская рать. А мы — три артиста — сидим здесь и одинаково не можем помочь, только, просыпаясь ночью, с ужасом рисуем страшные картины».
Владимир Короленко, писатель, классик русской литературы записал 22 апреля 1920 года:
«После отъезда Раковского в местной газете («Радянська Влада») напечатана его речь к рабочим Полтавы. Оратор он, несмотря на некоторый болгарский акцент (который многие принимают за еврейский), — недурной. Но его представления о настроении местного населения, особенно деревни, — совершенно фантастические. Разбои, по его мнению, — дело кулацкого элемента, т. е. того элемента, который именно от разбоев и страдает больше всего. Проклятие всякой власти, опирающейся на насилие, в том, что она начинает мыслить установленными шаблонами. Таков был шаблон о незыблемости самодержавия и о преданности русского народа царям до степени самоотверженного подчинения диктатуре помещиков по приказу царей. Теперь — такой же шаблон — якобы диктатура рабочего класса и крестьян, которая сводится на диктатуру штыка. И большевистское правительство уверено, что под этим шаблоном можно проделывать над народом все, вплоть до прямого захвата плодов кровного труда. Теперь, по общим отзывам, две трети земли останется незасеянной. Мужики сеют лишь для себя, чтобы самим быть сытыми».
Я привожу эти небольшие выдержки, чтобы вы могли представить себе, ощутить, какое это тревожное, противоречивое и жесткое время было вокруг. Как трудно было разобраться в происходящих вокруг событиях, что предпринять, на что решится.
Решение покинуть Россию Иван Алексеевич Бунин и его жена Вера Николаевна Бунина, которые Октябрьскую революцию восприняли как катастрофу, приняли еще в 1918 году. Сначала из Петрограда уехали в Москву, а из нее в январе 1920 года добрались до Одессы, откуда на греческом корабле отплыли в Константинополь. Вот что записала в дневнике 21 января, за несколько дней до отплытия из Одессы Вера Муромцева (Бунина):
«Слух: сегодня ожидается восстание большевиков.
Власть переходит к Микитко. Говорят, это по обоюдному соглашению, чтобы удобнее было эвакуироваться. Яну (так дома звала своего мужа Вера Бунина) с трудом удалось купить 5 думских по 2200 рублей. На «Ксению» не попадем. Обещают на «Дмитрия», тогда грузиться в четверг («Ксения», «Дмитрий» — имена кораблей).
Вчера бегала по городу, искала дров. Шесть полен мне дали Розенблат. Они очень любезные люди, от денег или от того, чтобы я возвратила им дрова, они отказались. А дрова были необходимы, чтобы высушить белье на случай эвакуации.
В порту такое воровство, что, укладывая чемодан, смотришь на каждую вещь и думаешь: «а, может быть, я вижу ее в последний раз» и чувствуешь какую-то безнадежность в сердце.
В Одессе, говорят, более ста тысяч военных.
Еще не назначили день отхода парохода, на который нас берут.
Деньги выдаются керенками (10000 руб. превратились бы в 3000 руб.). Ян отказался принять их. Ян совершенно замучен.
Невозможно ничего купить, ни валюты, ни денег. Вчера было скуплено почти все золото и бриллианты. На улицах масса народа. Все куда-то спешат. Около Лондонской гостиницы извозчики. На них накладывали зашитые в рогожи корзины.
«Ксения» отошла.
Анюта рассказывает, что в городе пальба, разъезжают грузовики, в порту Бог знает, что делается. Началась паника. В Государственном банке суета — эвакуируются. Словом, шансов немного, чтобы быть живыми и невредимыми. Хлеба купить уже нельзя. Завтра цена еще повысится. Ян купил сала 5 фунтов в дорогу за 1500 рублей. [...]
Анюта рассказывает, что из деревни приехал муж Людмилиной кумы и говорит, что большевики являются в деревни и все забирают: лошадей, скотину; молодых — под ружье, старых — в обозы, даже детей — для того, чтобы подносили снаряды. И все поедают, разграбляют. Она думает, что большевики, которые соединились с махновцами и с украинцами, и здесь будут так же грабить. — И что будет хорошего, — продолжала она, — ограбят сначала богатых, — их уж не так много — примутся за бедных. А нам, как будет плохо, теперь мы работаем и сыты, и одеты, а если всех разорят, куда нам итти?
«Дмитрий» может уйти лишь после 26 января. Может быть, нас посадят на другой пароход? Есть предложение Гораса устроить нас на французском пароходе, завтра, но без удобств, и без мест. Мы решили отказаться».
В этих коротких записях хорошо отображена обстановка в Одессе в эти дни: смута, неразбериха, хлеб по бешенным ценам, толпы растерянных людей, стремящихся покинуть Россию. Вот-вот в Одессу войдет Красная Армия, и что будет дальше совершенно непонятно. Важно обратить внимание, что эти записи сделаны 21 января, а за два дня до того, 19 января в семье Рутенштейн родился второй ребенок — моя будущая мама. О чем они думали? Скорее ни о чем не думали, просто жизнь, несмотря ни на что, брала свое. А возможно, все можно объяснить остроумной шуткой Михаила Жванецкого: «Одно неосторожное движение, и… ты отец».
Забегая вперед, могу сказать, что и я сам родился в самый разгар войны, в январе 1943 года, видно, что у моей мамы было что-то наследственное. Могу предположить, что радостное возбуждение, вызванное рождением дочери, сменялось у моего будущего деда беспокойством, тревогой и, возможно, отчаянием: «Софочка, я не понимаю, объясни мне, пожалуйста, чем я мешаю этой власти? Ты же знаешь, что я тоже немного пострадал от царизма. Мне пришлось бежать за границу почти без денег, а мой идиш имел мало общего с немецким и мне там было несладко. Почему я не могу теперь нормально работать? Я же не банкир и, не дай бог, никакой не спекулянт, я ничего не продаю и никого не эксплуатирую, я работаю один и все делаю вот этими руками и немного вот этой головой. Я просто ремонтирую часы, а они нужны при любой власти. Деньги заканчиваются, и я не знаю, как заплатить за квартиру и где купить молоко для Анечки». Был ли такой разговор точно не знаю, но то, что Марк Абрамович так думал и вел подобный мысленный разговор с женой, я уверен абсолютно. Как они выходили из этого трудного положения, я не знаю, но, разбирая старые фотографии, наткнулся на карточку маленького Левы, их сына, где на оборотной стороне было написано: «Дорогому дедушке от любящего шалуна внука (ему ровно 2 года). 14 августа 1914 года». Учитывая, что написано точно почерком его мамы, то, скорее всего, письмо с открыткой было адресовано в Борисоглебск, её отцу, т.е. моему прадедушке Борису. Таким образом, в 1920 году он еще, возможно, был жив и мог помогать молодой семье. Так или иначе моя бабушка, дед и их дети сумели выжить в эти трудные времена, а с появлением в Одессе средней сестры Веры с мужем Абой Петровичем, их положение существенно улучшилось.
6. Квартирный вопрос
Вот в такую Одессу, в которой интеллигенция и торговый люд с трудом и тоской отвыкали от своего привычного и устроенного образа жизни и никак не могли приспособиться к новому укладу, а рыбаки с Пересыпи, портовые грузчики, биндюжники и даже обычные голодранцы с одесских окраин лишились своей свободы, которая была им дороже всего, вот в такой город, скорей всего после окончания Гражданской войны, приехала тогда еще бездетная семья Або Петровича Эйдельберга. Я уже писал ранее, что скорей всего он не просто приехал в Одессу по своему желанию, а он «прибыл» в неё, как выражаются военнослужащие. Его участие в гражданской войне в том или ином виде могло начаться в 1918 году, когда его родной город Чебаркуль был освобожден от белых. То, что белые не очень любили евреев, это еще мягко сказано, от их рук погибли тысячи ни в чем не повинных людей, хотя и легендарные буденновцы не отказывали себе в этом развлечении. Рекомендую почитать «Конармию» Исаака Бабеля, который был не только её автором, но еще и лихим буденновцем, и писал о том, что видел собственными глазами.
Приход красных частей в Чебаркуль был с радостью принят большой частью жителей, куда помимо рабочих и революционно настроенных масс входила и еврейская община, натерпевшаяся от белых. Если не с радостью, то с облегчением точно. В этой ситуации Або мог по своей воле, либо по предложению, от которого нельзя было отказаться, очутился в рядах Красной армии. В этом нет сомнений, т.к. много лет спустя, когда уже мой дядя Або стал оформлять пенсию, он очень был расстроен утерянными документами об его участии в Гражданской войне, службе на границе и даже в особом отделе армии, которые давали право на получение персональной пенсии. В какой последовательности занимал он эти должности уже неважно. Важно то, что в Одессу он прибыл, будучи «сотрудником» некой силовой структуры, входившей в состав Красной армии. Сколько лет он еще в ней состоял и когда он расстался с кожаной тужуркой и револьвером на поясе, я не знаю, спросить не догадался, а потом не успел. Важно лишь то, что его документы и «статус», как сейчас говорят, безусловно помог ему получить жильё в Одессе, и не просто жильё, а квартиру в очень приличном месте и хорошем доме. Я в этом уверен. Эта квартира сыграла огромную роль в жизни её жильцов, моих родственников, которые стали заселять её в разные годы и в разном составе. Поэтому в этом месте хочу опять обратиться к книге Савченко, который вот что писал об Одессе и «квартирном вопросе» тех лет:
«Ядром Одессы был его великолепный центр, построенный в духе классицизма — прямоугольными кварталами. Это был район благоустроенных 3-5- этажных домов, где снимала или покупала квартиры буржуазия, чиновники, состоятельные врачи, адвокаты, богатые купцы, и роскошных дворянских особняков, шикарных магазинов, театров и ресторанов. Уже в начале XX в. эта часть города была электрифицирована, здесь работали водопровод, канализация, по освещенным фонарями улицам курсировало несколько десятков трамвайных маршрутов».
Именно, в таком «великолепном центре», в доме № 2 по Екатерининской улице в 1920 году получил квартиру Або Петрович вместе с супругой Верой Борисовной. Не думаю, что Або Петрович, размахивая револьвером, лично сам подыскивал себе жильё в самом центре незнакомой ему Одессы, а, скорее всего, он попал в списки новой советской номенклатуры, которую городские власти расселяли по барским квартирам, покинутым своими владельцами по собственному желанию или в результате драматических событий.
Обратимся опять к Савченко:
«После массового бегства буржуазии и дворянства в начале февраля 1920 года в опустевшие шикарные квартиры Центра стала переселяться «новая знать»: красные «комиссары», а также новые теневые дельцы, которые быстро нашли общий язык с большевиками. С лета 1920 года в огромных буржуазных квартирах «бывших» началось уплотнение — переселение сюда советских служащих, рабочих и люмпенов. Квартиры разбивалась не только на комнаты, но и на углы, в которых поселялись осчастливленные новой властью жители коммуналок.
Оставшиеся в городе представители дореволюционной элиты уже не могли серьезно влиять на культурные процессы в городе:- они были лишены всех политических и социальных прав и как «лишенцы» ютились по подвалам и углам.
На их место в «преуспевающие» кварталы въехали победившие классы с городских окраин — еврейские люмпены с Молдаванки, денационализированные (русские и украинские) рабочие парни с Пересыпи, бывшие красные командиры, демобилизованные с различных фронтов, бесчисленная армия новых советских и профсоюзных служащих, «партийцы». В Одессу 1920-х годов перебралось значительное количество заезжих «пришлых» чиновников и местечковой молодежи».
Дом №2 по Екатерининской улице находился в самом центре Одессы, «центрее» некуда. По степени престижности, это также, как если бы вы жили в доме рядом с Кремлем в Москве или Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге. Екатерининская улица, получившая свое название еще в 1820 году, начиналась от Екатерининской площади, куда одной своей стороной выходил этот угловой дом, и шла в сторону Преображенской улицы, пересекая с десяток улиц, названия которых известны всем, кто читал в детстве Льва Кассиля, Валентина Катаева или Константина Паустовского: Ланжероновская, Дерибасовская, Греческая и т.д. От неё было рукой подать до Одесского оперного театра, Воронцовского дворца, Приморского бульвара и Потемкинской лестницы. Тут селились только солидные и состоятельные люди, городские чиновники, известные адвокаты и врачи. Позже на многих домах были установлены мемориальные доски в честь живших в них известных Одессе и всей стране людей. Например, недалеко от дома №2 жил поэт Эдуард Багрицкий, а чуть дальше — композитор Модест Табачников, хотя, как рассказывал мне потом мой папа, который был хорошо знаком с ним в молодые годы, все звали его Мотя, а фамилия у него была Табачник.

Дом №2 по Екатерининской улице |
Фасад дома №2, построенного в 1902-1903 годах, был шикарно декорирован, украшен вычурной лепниной, напоминавший стиль барокко, почти все квартиры 4-х этажей, выходивших на Екатерининскую улицу, имели большие балконы, поддерживаемые кариатидами. В общем, выглядел он богато, наверное, отвечал вкусу и требованиям состоятельных жильцов. В доме был водопровод, канализация, ванны, горячая вода для которых нагревалась в угольных колонках, холодильные шкафы со льдом, а в кухнях помимо печей стояли небольшие газовые печки-таганки.
Чтобы вы представили себе саму квартиру, которую получил Або Петрович, воспользуюсь записками Бориса, его сына и двоюродного брата моей мамы, который часть жизни прожил в ней.
«Квартира в Одессе, где я имел честь родиться в 1926 году и где жили наши родственники, находилась на улице К. Маркса, бывшая Екатерининская, в доме 2, квартире № 41 на четвертом этаже флигеля во втором дворе с окнами, выходившими во двор. Если от подворотни со стороны улицы повернуться лицом к морю, то можно увидеть вдали на бульваре фигуру Дюка, стоящего лицом к Потемкинской лестнице, известной во всем мире по фильму «Броненосец Потемкин». Слева виден Сабонеев мост, спуск в порт, направо, в двух кварталах Дерибасовская. Самый центр Одессы. Входите с улицы под арку подъезда и попадаете в первый двор. За второй аркой второй двор, куда выходят балкон и окна. Есть еще третья арка, за которой находится третий дворик с туалетом, водопроводным краном и помойкой. В этот двор можно было спуститься из квартиры по черному ходу. А дальше, через забор находилась знаменитая музыкальная школа Столярского, многие ученики которого стали известными всему миру музыкантами.
Если подняться по парадной мраморной лестнице на 4-й этаж, ты попадешь к двери наполовину застекленную цветными стеклами с решеткой и ставнями внутри. Дверь вела в большую переднюю, где стоял обеденный стол и большой диван, в котором хранились еще дореволюционные журналы «Вокруг света», а еще два складных брезентовых ведра — это дед собирался с Левой путешествовать по Сахаре. В углу передней находилась и буржуйка, которую установили, наверное, еще в начале 20-х годов, когда в городе был голод и холод. Топили её отходами, которые Манюшка, младшая из сестер, приносила из багетной фабрики, где она работала. В те года питались перловой кашей с постным маслом, которое выдавала «АРА», американская благотворительная организация, пока не поняли, что это «шпионы». Справа от передней находилась комната с окном во двор, где я жил с мамой и папой (семья Эйдельбергов: Або Петрович, Вера Борисовна и их сын Борис). Далее, также справа от передней были двери еще в три небольшие комнаты: спальню и столовую Рутенштейнов с балконом и в небольшую комнату с окном в лестничный проем черного хода, где жила младшая, незамужняя сестра Манюшка. В конце тридцатых годов власти города проводили кампанию уплотнения и одну комнату – спальню — отобрали и в нее вселился семья водолаза по фамилии Еремин с женой и двумя детьми. Осталась только одна комната с круглым столом, большим абажуром, письменным столом, старинным буфетом, диваном со спинкой и изразцовой печкой. Летом спали на большом балконе. Передняя переходила в темный коридор, где стоял ледник, представлявший собой кухонный шкаф с двумя отделениями для продуктов, между которыми находился ящик из жести, куда засыпали лед. Лед покупали у разносчика, который приходил во двор и кричал: «Кому лёд, кому лёд?» В те времена также во дворе кричали: «Мороженое, кому мороженое? Ремонт обуви! Ремонт кастрюль и примусов! Покупаем старые вещи!» Во двор мог приходить скрипач или трубач, и играли они, надо сказать, превосходно.
В Одессе все хорошо играли на инструментах. Музыкантам кидали монетки, завернутые в бумажку. Также в коридоре стояли: ножная швейная машинка, шкафы с книгами, в том числе собрание сочинений Льва Толстого, на каждой обложке которого был приклеен металлический барельеф, возможно даже серебряный. В конце коридора была ванная, совмещенная с туалетом, и кладовка. В ней был куб, который топили углем, и горячую воду можно было выпускать в ванну. В ней всегда набирали воду про запас, обычно ночью. Была, конечно, и кухня, окно которой выходило на Гаванную улицу, на которой была видна и баня, где банщик мыл меня лошадиным хвостом, а потом опускал в маленький бассейн и снова мыл, выворачивая все суставы. На кухне была плита с устройством для установки самовара. Плиту почти круглые сутки топили углем, который хранили в подвале».
Из описания квартиры можно понять, что, хотя её окна не выходили на Екатерининскую улицу, и располагалась она во флигеле во втором дворе дома, была она достаточно просторной, с тремя жилыми комнатами с окнами и большим балконом, прихожей-столовой, с вспомогательными помещениями, ванной и кухней. Как у всех барских квартир был еще выход на черную лестницу, которой пользовалась прислуга и по которой поднимали в квартиру уголь и лед.
Читая описание квартиры, конечно, возникает вопрос, не великовата ли она была для одного из бойцов Красной Армии не очень высокого ранга. Думаю, что Або Петрович сумел убедить жилищных начальников, выписывающих ордера на квартиры, что в ней будет жить не только он, но и родная сестра его жены с двумя детьми и её муж, бывший революционер, спасавшийся в молодости от тирании царизма в Швейцарии и даже, возможно, был знаком и общался там с самим Лениным. Вполне мог заболтать не очень грамотного советского чиновника. Так или иначе, но в 1921 году в квартиру на Екатерининской улице переехала с Тираспольской семья Рутенштейн с 9-летним Львом и годовалой Анечкой, моей будущей мамой.
Надо сказать, что дом на Екатерининской, его дворы и его жители не имели ничего общего с теми домами и дворами двухэтажных районов Одессы, непременно фигурирующих во всех книгах и кинофильмах, повествующих об одесситах, как обязательно веселых, остроумных, общительных, людях, разговаривающих с еврейским акцентом и энергично жестикулирующих руками. Женщин в этих произведениях, как правило, зовут тётя Соня или тётя Сара, а мужчин — дядя Яша или дядя Боря. Во дворах на вторые этажи этих домов с открытыми или застекленными деревянными балконами и верандами всегда ведет металлическая лестница, между домами протянута веревка с бельём, воду набирают в колонке, у которой же моют овощи и полощут бельё, а мусор выбрасывают в большой ящик, который называют по-украински «смитник». Квартирки в этих домах маленькие, тесные и душные, поэтому хозяйки часть жизни проводят во дворе, где общаются с соседками, обсуждают все городские новости, слухи и сплетни, готовят, стирают и часто кормят своих домочадцев за большими столами, за которыми по вечерам их мужья забивают «козла». Во дворе всегда стоит запах жаренной рыбы и лука. Ничего подобного во дворах солидных барских домов в центре Одессы и в характерах моих родственников и в помине не было. Жареной рыбой там никогда не пахло и белье стирали не у колонок, а в ваннах. Надо сказать, что и одесситами, в привычном смысле этого слова, они не были изначально, а стать ими впоследствии просто не успели.
Квартира стала постепенно заполняться моими родственниками, и пришла пора всех перечислить и указать их имена, которые я буду упоминать в дальнейшем. И хотя действующих лиц в моих записках всего 10 человек, это не позволит вам запутаться, кто есть кто.
1. Софья Борисовна Рутенштейн, урожденная Нейштадт, мама моей мамы, т.е. моя бабушка. Дома все её называли тётя Сока, почему не знаю.
2. Марк Абрамович Рутенштейн, мамин отец и мой дед, в семье его все звали Маркуша.
3. Лев Маркович, их сын, родной брат моей мамы, мой дядя Лёва.
4. Анна Марковна Червинская, урожденная Рутенштейн, их дочь и моя мама. В семье и почти все вокруг называли её Ноной, почему не знаю.
5. Вера Борисовна Эйдельберг, урожденная Нейштадт, тётя моей мамы, моя двоюродная бабушка, но я называл её всегда тетя Вера или просто Тётя.
6. Або Петрович Эйдельберг, её супруг. Мама и все остальные называли его Дядька. Еще они друг друга, называли Вулечка и Булечка, почему тоже не знаю.
7. Борис Абович, их сын, двоюродный брат моей мамы, в семье его называли Борис или Боба. Мне был как бы за двоюродного брата, и я тоже так называл его.
8. Маргарита Абовна, их дочка. Будучи еще совсем маленькой, проснулась и заявила, что её зовут Тикама. Так все её и звали — Тикама.
9. Мария Борисовна Нейштадт, младшая сестра Софии и Веры, тётя моей мамы и остальным детям. Дома её звали Манюшка, замужем не была, но и старой девой её тоже назвать было нельзя.
10. Исаак Абрамович Червинский, мой папа. Прямого отношение к родственникам в квартире на Екатерининской улице не имел, я даже не уверен, что он там бывал, а если и был, то не больше одного-двух раз, т.к. появился на горизонте моей мамы только в конце 30-х годов, но статуса жениха не имел, просто был одним из её знакомых.
7. Как они жили
История жизни перечисленных выше родственников в этой квартире насчитывает в общей сложности не менее 20 лет, но постоянно, все вместе, они жили недолго и не всегда. Рассказывая о их жизни, хотя информации и подробностей у меня немного, я коснусь некоторых событий и станет понятно, чем это было вызвано. По всей вероятности, первый этап совместного проживания, включая и Манюшку, которую «выписали» в Одессу из опустевшего дома в Борисоглебске в начале 20-х годов, продолжался до1924-1925 года, после чего мои дед с бабушкой и их дочкой уехали Тобольск. Точнее не уехали, а были вынуждены уехать в Сибирь, а ещё точнее, они были отправлены или сосланы туда в рамках кампании по преследованию и ограничению в правах буржуазных элементов, к которым по каким-то причинам отнесли и семью скромного часовщика-ювелира, который в эти годы на службе не состоял, был ремесленником, занимался частной деятельностью, т.е. был явно чуждым элементом. Так, в двух словах, объясняла мне моя мама причину их отъезда из Одессы и жизни в Тобольске, которую сама смогла понять толком, только когда повзрослела. Не исключаю, что «ссылка» в Тобольск, большой старинный и достаточно благоустроенный в те годы город, был, что называется наиболее мягким репрессивным вариантом, добиться которого мог Або Петрович, в те годы еще сотрудник органов близких к власти. Кроме того, нельзя исключать, что необходимость покинуть Одессу была воспринята моим дедом не как катастрофа, а как спасительный шаг, о котором он размышлял в те голодные и холодные годы, но сам никогда не предпринял бы его в силу нерешительности своего характера.
Чтобы понять это, надо представить себе жизнь в Одессе, начавшуюся в городе в 1920 году, после окончательного установления в ней Советской власти. Изменения произошло очень быстро, буквально за пару лет Гражданской войны город потерял свой буржуазный лоск, и относительное благополучие почти всех слоев населения сменилось упадком, разрухой, обнищанием и каждодневным ощущением страха за свою жизнь. Бандиты и воры Молдаванки, ставшие впоследствии героями многих книг и кинофильмов, почувствовав почти полную безнаказанность, грабили и убивали одесситов, невзирая на их социальную принадлежность
«Вряд ли какой-нибудь другой город так изменился за годы революции, как эта беспечная и жизнерадостная хипесница (от блатного слова «хипеш» — крик, гвалт). Дело не в мертвенности порта, не в разрушенных зданиях… Легкомысленная Одесса, эта Манон Леско с еврейским акцентом, по-женски обаятельно занятая спекуляцией, как модница папильотками, не выдержала аскетической атмосферы правоверных лет. На прощание она еще одарила хмурый север некоторыми (перворазрядными) писателями, а также преступниками (предпочтительно шулерами и шантажистами), внесла в блатной словарь московских притонов ряд выражений… Никакие ветры, никакие декреты не успели окончательно проветрить этот питомник франтов, хвастунов и жуликов, где можно пить черный кофе, наслаждаться иностранным “дюком” и не менее иностранным небом, печатать фальшивые ассигнации, влюбляться напропалую и спорить с неповоротливым Далем..»
Так, с поэтическим преломлением, описал обстановку Одессы тех лет Илья Эренбург.
В реальности, сам город и жизнь в нем была далека от этого поэтичного образа, все было гораздо хуже и прозаичнее.
Савченко так обрисовывает Одессу тех лет:
«Холодная зима 1920-1921 гг. обезобразила лицо города, придав ему выражение затравленности. Темный, без освещения город поражал своей безлюдностью, большая часть заводов и фабрик бездействовала, порт замер. На улицах — почти полное отсутствие транспорта: трамваи с февраля 1920 по ноябрь 1921 года вообще не ходили, а автомобили или брички были большой редкостью. Разве что в темноте проносились страшные автомобили одесского ЧК: в автопарке ЧК было 10 легковых авто, в милиции — 6, а вот машин «скорой помощи» только три, столько же машин было в распоряжении губернского исполкома.
Город выглядел искореженным, брошенным на растерзание, а его роскошная архитектура — декорацией для народного трагифарса. Одесса больше ничем не напоминала того культурно-административного, торгового, курортного, промышленного центра, которым она была прежде. Она была обречена на тихую провинциальную жизнь вдали от мировых столиц. Порт почти бездействовал, товарные, информационные и административные потоки шли через столичный Харьков.
По городу шныряли подозрительного вида молодые люди, грабившие пустующие квартиры и дачи. Горожане, чтобы не привлекать к себе внимание грабителей, одевались в обноски, оставшиеся от «прошлой жизни»: в солдатские шинели и матросские бушлаты, на ногах — обмотки, дырявые ботинки… Из окон некогда шикарных квартир торчали убогие трубы печек-буржуек — система отопления полностью вышла из строя. Повседневная жизнь общества начала 1920-х годов приобрела признаки экстремальности, на ней отразились социальный хаос, послевоенная разруха, голод. Огромное количество свободного времени одесситы тратили на то, чтобы приспособиться к экстремальным условиям «нового мира». Но этот страшный жизненный набор дополнялся еще и страхом, что охватил опустевший город, страхом перед беспричинными чекистскими арестами и милицейскими облавами, страхом быть ограбленным или убитым многочисленными бандитами и хулиганьем, страхом потерять работу, квартиру, лишиться последних средств к существованию…».
Вероятно, в эти годы в прихожей квартиры и была установлена буржуйка, которую топили чем попало, в том числе дровами, на которые пошли сотни деревьев, в том числе и с Приморского бульвара. Угля в городе уже не было.
Как зарабатывал себе на жизнь мой дед, не знаю. А ему надо было кормить уже двоих детей, в январе 1920 года родилась моя мама. Не думаю, что он имел достаточно заказов на ювелирные изделия, а владельцы дорогих часов были уже далеко от Одессы. Возможно, были какие-то накопления от прежних благополучных лет, возможно, он занимался мелким ремонтом примусов и швейных машинок, без которых не обходилась ни одна одесская семья, руки у него были золотые. Думаю, что существенную часть общесемейного бюджета обеспечивал Або Петрович, получая жалованье, т.к. в эти годы он еще не оставил службу, то ли в ЧК, то ли на таможне. Детей у них с женой еще не было, и они могли помогать родственникам. На нем же, обладающим оружием и нужными связями, вероятно, лежала обязанность по обеспечению безопасности жителей квартиры.
Но вскоре наступили времена еще хуже — голод, и оружие тут было бесполезно. Об этих годах, если не крайнего голода, но острой нужды и крайне скудного питания, мама рассказать мне не могла, слишком она была еще мала, а несколько самых голодных лет она с родителями провела в Тобольске, в котором в 20-е годы голода не было. А Борис, вообще родился только в 1926 году и о голодных годах знал только из рассказов своей мамы, о чем и написал в своих воспоминаниях. Об этом же она, моя тётя Вера, рассказывала мне в начале 50-х годов, но после перенесенной ею самой семи самых жутких месяцев ленинградской блокады, те лишения казались ей уже не такими тяжелыми. Но все равно, одесская голодуха начала 20-х годов, не говоря уже о изнуряющем голоде в дни блокады, оставили в ней след на всю жизнь.
Уже прошло много лет после войны, и они с дядей жили обеспеченно и не испытывали никаких трудностей, но все равно, когда она чистила картошку, её кожура была не толще пергамента, весь хлеб съедался до последней крошки, а оставить что-нибудь недоеденным на тарелке — было просто невозможным. Эти её рассказы и чуть дрожащие при этом руки оказывали на меня большое впечатление, так же, как и рассказы Бориса о днях, проведенных на передовой во время войны. Никакая, сама талантливая книга или кинофильм не могут передать тот нерв, ту боль и ужас, которые вызывают рассказы непосредственных участников, тем более твоих родных. Тем не менее, хочу, чтобы вы представили обстановку тех лет в Одессе. Опять обратимся к выдержкам из книги Савченко.
«В 1921 году Одессе царила безработица — число безработных колебалось от 20 до 30 тыс.; город был полон уголовниками, босяками, проститутками, попрошайками — примерно 30 тыс. из 400-тысячного населения. Тяжелее всего приходилось брошенным на произвол судьбы одиноким старикам и инвалидам — пенсии в Одессе начали платить только с 1924 года.
Тысячи одесских рабочих, служащих и безработных к весне 1921 года утратили всякую надежду на улучшения своего положения. Ведь после установления власти большевиков в Одессе в феврале 1920 года и разгрома войск Врангеля и Петлюры в ноябре этого же года, фактически обозначившие окончание Гражданской войны, прошло достаточно много времени, но обещанные большевиками перемены к лучшему не наступали. Более того, к январю 1921 года новая «красная» власть столкнулась с глобальным коллапсом промышленности, и казалось, что выхода из этого нарастающего хаоса уже не найти. Состояние одесской промышленности можно охарактеризовать двумя словами: разруха и разорение.
Город захлестнула невиданная инфляция. На «вольном» рынке Одессы в феврале 1922 года цены были безумными, даже хлеб и подсолнечное масло были почти недоступны простому народу.
Летом 1921 года на Украине начался голод, который привел к гибели нескольких миллионов людей. Засуха и недород дополнялись драконовскими методами управления сельским хозяйством и усугублялись продразверсткой. В одесских селах в октябре-декабре 1921 года крестьяне вымирали семьями, каждую неделю секретные сводки сообщали о сотнях умерших. Одесская губерния входила в пять наиболее пострадавших от голода губерний УССР.
В Одессу потянулись толпы голодающих крестьян, для которых «городское благополучие» было единственной возможностью выжить. Но и над горожанами нависла угроза голода. В начале октября 1921 года были зафиксированы первые случаи голодной смерти среди рабочих. Одесситы доедали последних кошек и собак, По Одессе прошла череда эпидемий сыпного тифа, дизентерии и других болезней».
Личные письма одесситов полны страха перед будущим. Так, в письмах рабочих говорилось: «…если бывают митинги, то кричат: прочь коммунистов, дайте хлеб нашим детям, которые умирают от голода», «живем мы в холоде, голоде, грязи и под дамокловым мечом всякого рода обысков и реквизиций… большевики захватили все товары, как воры и грабители». Слухи были похожи на лозунги: «…зачем мы делали революцию, чтобы голодать», «когда был царь и капитал, мы голода не знали».
Помощь неожиданно пришла от западного, «буржуинского» мира: Американской организации помощи (American Relief Administration — АРА), Международного комитета помощи России, Фонда Ф. Нансена, Фонда Рокфеллера, Красного Креста, «Джойнта», организаций помощи менонитов, квакеров… Самой мощной из них была АРА, которая добилась от властей права самой организовать помощь, обязуясь оставаться вне политики. Важно понимать, что возможность оставаться вне политики допустили не только руководство СССР, но правительство США и других западных стран, которые стояли перед выбором: использовать голод в России, как оружие, и добиться падения власти большевиков, или, руководствуясь гуманистическими соображениями, не препятствовать частным и общественным организациям спасать миллионы людей в России, Украине и Казахстане от голодной смерти. Как мы теперь знаем, победил гуманизм.
АРА привозила на Украину и в Одессу свой американский персонал. Большая часть благотворительных грузов доставлялась морем через Одесский порт. Начина с 1922 года в одесский порт стали приходить американские и шведские суда с продовольственной помощью, стали открываться столовые АРА — бесплатная порция еды состояла из горячего какао, рисовой каши на молоке, молочной лапши, куска хлеба из кукурузной муки».
Фактически, АРА спасла от голодной смерти или истощения десятки тысяч одесситов. Помогла АРА и моим родственникам пережить тяжелые времена, особенно прокормить детей.
В середине 20-х годов, зарубежная помощь и зачатки НЭП’а позволили преодолеть острую фазу голода, но советские органы вновь вернулись к борьбе с буржуазными элементами, куда причислили и моего деда.
Ссылку в Тобольск, как я уже писал выше, он воспринял, наверное, даже с некоторым облегчением, т.к. появилась надежда, что там не будет такой гнетущей обстановки, и он сможет работать. Так и получилось. Отправились они в Тобольск, судя по всему, не позднее 1925 года, т.к. мама еще не ходила в школу, но и не раньше 1923 года, т.к. мама сохранила в своей детской памяти много подробностей из жизни в Тобольске и рассказывала о тех нескольких годах, проведенных там, как об очень спокойных и даже счастливых в её детстве.
В её рассказах о жизни в Тобольске она никогда не упоминала о своем старшем брате Леве. Судя по всему, он остался жить в Одессе под присмотром своей тёти, Веры Борисовны. Это подтверждается тем, что в после окончания семилетки в 1926 году, когда ему исполнилось 14 лет, он пошел работать на одесский судостроительный завод им. Марти, надо было начинать строить пролетарскую биографию, т.к. детей ремесленников в техникумы и, тем более, институты не принимали. Такой же шаг после окончания школы пришлось сделать позднее и моей маме. Как это ни смешно, но и мы с Викой, после поступления в институт, а это было уже, слава богу, в 1960 году, целый год совмещали учебу с работой на заводе токарями, воплощая в жизнь представления Н.С. Хрущева о пользе формирования пролетарского сознания у будущих инженеров.
8. Тобольск
Надо сказать, что поездка в начале 20-х годов из Одессы в Тобольск была сама по себе, если не подвигом, то серьёзным испытанием уж точно. Расстояние от Одессы до Тобольска по железной дороге в наше время составляет 3400 км, наверное, и тогда было не меньше. Прямой ветки не было, скорей всего, ехать приходилось с пересадкой в Москве. Уверен, что при том уровне связи, системы бронирования билетов по всему маршруту с учетом пересадок тогда не существовало и, добравшись до Москвы, Марку Абрамовичу надо было добыть билеты в Тобольск на всю семью и по возможности в плацкартный вагон. Представляю, как они, сойдя с поезда на Киевском вокзале в Москве со всем багажом, а везти они должны были с собой в холодную Сибирь много вещей, включая подушки и одеяла, растерянно озираясь и боясь потерять друг друга в толпе, вышли на привокзальную площадь в поисках извозчика — надо было добраться до Казанского вокзала. Дальше мое воображение рисует уже площадь трёх вокзалов, массу людей и транспорта, шум большого города, маленькую девочку, вцепившуюся в руку своей матери, большую очередь в кассу, выстояв которую, мой дед выясняет, что билетов на Тобольск на ближайший поезд нет и надо ждать несколько дней до отправления следующего состава. Как они провели эти пару дней в Москве, где ночевали, как питались, удалось ли уберечься от карманников, фантазировать не буду, но ясно, что помучиться им пришлось вдоволь.
В наше время добраться от Одессы до Тобольска на скором поезде можно за 46 часов, менее, чем за двое суток, а в те времена, учитывая состояние железных дорог и паровозов, необходимость ожидания на разъездах встречных составов, это путешествие заняло, наверное, не меньше недели. Уверен, что весь долгий путь в душном и прокуренном вагоне их обоих не оставляли тягостные мысли и тревога, каждый думал о своем. Марка Абрамовича тяготила неизвестность предстоящей жизни, мучило ощущение беспомощности и вины перед женой и дочкой за невозможность защитить их от обрушившихся на них напастей, сломавших их еще некогда устроенную и спокойную жизнь. Софья Борисовна, измученная неудобствами вагонного быта, страдая от отсутствия воды и чистого воздуха, вспоминала счастливые дни в Борисоглебске и отгоняла от себя мысли о возможной ошибке, которую она совершила, согласившись выйти замуж за этого милого, но не очень надежного молодого человека.
Встречал ли их кто-то на вокзале и вообще знали ли соответствующие органы, которые занимались приемкой и расселением ссыльных, об их прибытии — не знаю, скорее всего, нет. Единственное, что должно было им помочь, это «бумага» с печатью, удостоверяющая, кто и зачем прибыл в Тобольск, которая у них наверняка была. Очевидно, бумага сработала, и «ссыльным одесситам» отвели просторную избу, и в дальнейшем отношение к ним у местных властей было не враждебное.
Надо сказать, что к ссыльным, заключенным и даже к каторжникам в сибирских городах относились всегда очень по-человечески, жалели, никогда не отказывали в куске хлеба. Мой дед мог бы гордиться, что как ссыльный попал в один ряд со многими известными людьми. В Тобольске в местном остроге, одном из самых знаменитых в Сибири, отбывали наказание Фёдор Достоевский и Владимир Короленко, несколько месяцев с 1917 по 1918 год в Тобольске содержали царскую семью. Думаю, что сам Тобольск, основанный в XVII веке, бывший одно время столицей Сибири, отстроенный после пожара XVIII века полностью в камне, произвел на одесситов большое впечатление. Даже в детской памяти моей мамы остался на всю жизнь вид тобольского Кремля, возвышающегося над городом на высоком холме, за белоснежными стенами которого со всех концов города была видна колокольня и собор Святой Софии, одного из самых великолепных соборов России.

Тобольский кремль |
Мама вспоминала, что в деревянном большом доме у них было две комнаты и кухня с большой печью, которая обогревала и комнату тоже. Моя будущая бабушка, а тогда еще молодая и красивая женщина едва за 30 лет, по рассказам мамы, быстро освоилась, научилась готовить в русской печи, обустроила и навела уют в избе и чувствовала себя там хорошо. Зимой был тепло и очень уютно, пахло лиственницей, из которой были срублены стены и настлан пол, выскобленный до состояния белизны. Дед много работал, делал, как вспоминала мама, цепочки и крестики из серебра, обручальные кольца из царских золотых монет. Ремонтировал часы, в том числе и ходики с кукушками, механизм которых, на его счастье, был не очень надежный и периодически требовал ремонта. Очень часто заказчики расплачивались продуктами: мукой, маслом, яйцами, которые, как осталось у неё в памяти, приносили в плетеных лукошках, которые потом стояли у кухонного окна, где было попрохладнее.
Одно из самых ярких маминых воспоминаний, связано с катанием зимой на санках с крутого спуска, который вел с набережной на берег Тобола. Иногда вместе с ней спускался и мой дед. Из отрывочных воспоминаний мамы, её рассказах о различных эпизодах жизни в Тобольске у меня сложилось убеждение, что жилось им там эти несколько лет неплохо и гораздо спокойнее, чем в Одессе. Тем не менее, оставаться в Тобольске они не намеривались. Для местных властей они оставались ссыльными, для окружающих своими не стали, а кроме того, конечно, их тянуло в теплую Одессу, в привычную среду обитания и, самое главное, они очень скучали по родным и, прежде всего, о Лёве, который стал уже подростком, закончил семилетку и пошел работать. Поэтому, получив разрешение, они вернулись домой. Когда точно они приехали в Одессу, мама никогда не говорила, но было это не позже 1927 года, потому что в школу она пошла уже в Одессе, после возвращения из Тобольска.
Скорей всего в этом же году была сделана эта семейная фотография. Судя по качеству снимка, фотография сделана в фотоателье профессиональным фотографом.
 |
В те годы такого понятия как фотолюбительство, практически, не существовало, так же, как и доступных малогабаритных фотоаппаратов, поэтому желая сделать семейное фото, шли в фотоателье, и это было целое событие в жизни любой семьи. К нему готовились, тщательно подбиралась одежда, конечно самая лучшая и нарядная. Вот и на этом фото дед в костюме с бабочкой, Сока в элегантном платье и модной шляпке, а моя будущая мама в красивом, «выходном» платье и с уложенными волосами. Но главное на что надо обратить внимание, это на композицию и свет, которые создали очень камерную обстановку, подчеркнув солидность деда, изящность Соки, трогательность и молодость их дочки. Прошло почти 100 лет, а они смотрят и смотрят на нас, как будто что-то хотят нам сказать. Фотографы тогда хорошо знали свое дело и, кроме того, были настоящими художниками.
9. Три сестры под одной крышей
После возвращения деда с семьёй в Одессу все три сестры вновь стали жить под одной крышей. С рождением у четы Эйдельбергов в 1926 году сына общее число жильцов в квартире на Екатерининской улице возросло до 8 человек. Как были организованы в то время их жизнь и быт, я не знаю. Мама была еще мала, а Борис только что родился и его воспоминания, которые он написал, касаются уже середины 30-х годов. Знаю только от мамы, что мой дед, после возвращения из Тобольска, устроился в какую-то артель, объединявшую часовщиков и ювелиров, работающих на дому или в маленьких мастерских, дядя уже не носил кожаную тужурку, а работал на каком-то предприятии рядовым экономистом, скорняки в Одессе были тогда не очень актуальны, а младшая сестра Манюшка работала на какой-то фабрике, возможно, багетной, о которой позже упоминает Борис в своих воспоминаниях. Скорей всего это была не фабрика, а обычная скромная одесская артель, т.к. трудно себе представить, чтобы спрос на багеты, требовал его массового изготовления в фабричных масштабах. Таким образом, работающих членов семьи, если считать и Лёву, который уже начал трудиться на судостроительном заводе имени Марти учеником клепальщика, было четыре человека, а кормить надо было восьмерых. Доходы были очень скромные и на содержание всей семьи хватало с трудом, поэтому жилось им очень непросто, и не только им.
В конец 20-х годов, после относительного благополучия времен НЭП’а , опять появились перебои с хлебом и продуктами. К этому времени партийное руководство страны, опасаясь, что новая буржуазия, быстро народившаяся во времена НЭП’а, и проникновение буржуазности в сознание несознательной части населения могут подорвать устои советского государства и веру народа в коммунистические идеалы, начали принимать меры по свертыванию не социалистических методов хозяйствования. Эти меры сопровождались постепенными ограничениями, запретами, национализацией частных предприятий и другим действиями репрессивного характера. Естественно, это привело к недовольству частников, к волнениям и протестам, в первую очередь среди сельского населения, которого опять стали принуждать к регламентированной сдачи хлеба, необходимого для экспорта за рубеж.
Как это часто бывает в подобных ситуациях, внимание народа надо было переключить на что-нибудь другое. Лучше всего в этих случаях подходит создание в обществе атмосферы надвигающейся внешней угрозы.
Обратимся опять к Савченко.
«В 1927 году Исполком Коминтерна публикует тезисы «О войне и военной опасности», а вскоре Н. Бухарин публично заявляет: «Необходимо в упор поставить вопрос о возможном нападении на СССР». Вскоре в Одессу прибывает нарком обороны СССР Клим Ворошилов и сообщает руководству города о возможности военного конфликта. На июльском пленуме партии звучали заявления о неизбежности войны. Обществу навязывались стереотипы, что внешний мир — постоянный источник военной угрозы. Одесситы снова стали закупать спички и соль.
Кризис хлебозаготовок 1927/28 годов во многом был вызван распространением слухов о скорой войне, о которой трубили газеты и партийные лидеры. Подобная информация провоцировала в городах панику: люди запасались товарами и продуктами питания, полки магазинов быстро опустели. Крестьяне, ожидая взлета цен на хлеб, придерживали зерно и не везли его на рынки, подорожание зерна, в свою очередь, вызвало рост цен на мясо и птицу. Началась цепная реакция повышения цен. Весной 1928 года в Одессе вводят карточки на продукты питания, что приводит к появлению огромных очередей в магазины. На базарах Одессы толпы голодных крестьян, у которых власти уже успели конфисковать все продукты, пытались разгромить хлебные будки. Сложность ситуации провоцировала людей на поиск врагов. Для городского населения кроме власти врагами были «кулаки», «спецы» — интеллигенция, а также оппозиционеры.
Иногда хлебный кризис объясняли необходимостью иметь запасы «хлеба для армии, потому что война неизбежна». Наиболее близкими к истине были те, кто утверждал: «…урожай вывезен и продан за полцены Западу. Многие горожане работали в порту и видели, как за границу вывозится хлеб. Грузчики рассказывали, что хлеб, сахар, мясо, яйца, масло грузят на иностранные корабли, стоящие в одесском порту, в то время как рабочий класс голодает».
Вот в такой обстановке слухов, паники, тревоги и реальной нехватки еды, и хлеба, жили мои родственники. Как протекала их жизнь? Наверное, в тех же заботах, которые одолевали и абсолютное большинство одесских семей. Дед и дядя работали, их жены занимались поиском продуктов, стоянием в огромных очередях за хлебом, ведением хозяйства. Выжить в этих условиях можно было только сообща. Моя мама начала ходить в школу, её брат Лева начал работать на заводе и готовился к призыву в Красную Армию, маленький Борис сидел дома под присмотром мамы и тети, а Манюшка пропадала на багетной «фабрике».
Манюшка резко отличалась от своих старших сестер и по характеру, и по образу жизни. Если Софья и Вера были «чеховскими барышнями» с хорошими манерами, то Манюшка была если не хулиганкой, то возмутителем спокойствия точно. Она единственная из всех родственников представляла рабочий класс, была членом партии, пропадала на различных собраниях, была активной и раскрепощенной девушкой
Её раскрепощенность распространялась и на отношения с молодыми людьми, быстротечные романы с которыми иногда заканчивались неожиданными беременностями, но не рождениями детей. Об этом мама рассказывала мне много позже, как бы в назидание и с намеком. В оправдание этой молодой и незамужней женщины можно сказать, что Одесса с её темными вечерами и ночами, тихим шелестом набегающих волн и пьянящим морским воздухом очень располагала к вспыхиванию романтических отношений. Кроме того, одесские молодые люди были красивы и обаятельны, в их жилах текла смесь всех причерноморских народов, давших миру особую национальность — одессит. Устоять было невозможно. Все домочадцы её любили, но досталась ей только маленькая комнатка с окном, выходящим в лестничный проем. Жила она немного обособленно от членов остальной семьи, пропадала на работе, партийных собраниях, дома бывала мало, но свой вклад в обеспечение жизни семьи вносила.
Моя бабушка и тетя Вера на пару вели домашнее хозяйство, а в те времена эта обязанность не имела ничего общего с заботами современных домохозяек. Никаких электробытовых приборов тогда, кроме лампочек Ильича, в России не существовало. Никто даже и не догадывался о существовании холодильников, пылесосов, электромясорубок, электроутюгов, не говоря уже о стиральных машинах. Слухи о том, что все эти чудеса в Америки уже существуют, вызывали улыбку, и относились к ним как досужим фантазиям.
В поисках продуктов и для отоваривания карточек в магазины и на базар надо было ходить несколько раз в неделю. Трамваи ходили редко и нерегулярно, поэтому приходилось идти пешком минут 40. Готовили в основном на печке, которую топили углем, если удавалось его купить, или на примусе. Печь топили почти весь день, на ней же на специальной подставке стоял самовар, горячую воду для мытья и стирки грели в колонке, стоящей в ванной. Там же стирали, естественно, вручную все белье. Где сушили, не знаю. Почти каждый день надо было спускаться в подвал за углем, если он был. Никаких макарон, лапши и прочих продуктов быстрого приготовления в продаже не было. Лапшу для супов, если удавалось достать муку, делали сами. Тесто раскатывали скалками во всю длину стола и резали затем на длинный полоски шириной 5-6 мм, развешивали на веревках, как бельё, и сушили на балконе. За этим процессом я уже потом сам наблюдал, когда бывал на каникулах в Одессе у папиной мамы, моей второй бабушки. Поэтому поисками и приготовлением еды занимались с утра до вечера, практически весь день. Хотя, как вспоминал Борис, бывали дни, когда вся готовка сводилась к варке перловой каши с подсолнечным маслом. О чем беседовали меж собой сестры? Наверное, о бытовых проблемах, о детях, о том, что и из чего приготовить обед на завтра, вспоминали свои счастливые годы в Борисоглебске.
10. Путешествие по Сахаре
Об отношениях моего деда с его сыном Лёвой, практически, ничего не известно. Мама не рассказывала, да и я в детстве не особенно интересовался, казалось это было так далеко и так не важно для меня. Но читая воспоминания Бориса, я наткнулся на такую фразу: «…Дверь вела в большую переднюю, где стоял обеденный стол и большой диван, в котором хранились еще дореволюционные журналы «Вокруг света», а еще там были два складных брезентовых ведра-это дед собирался с Левой путешествовать по Сахаре». Очень интересная подробность, о многом говорящая. Значит, Лева с отцом тесно общались; наверное, устраивались по вечерам удобно на этом большом диване, закрывали двери в переднюю, чтобы никто им не мешал, листали подшивки «Вокруг света», рассматривали фотографии и читали описания путешествий в далёкие страны. В каком году могло это быть?
Лева родился в 1912-м, в Тобольск родители с сестрой уехали в 1924-м или в 1925-м, Лева оставался в Одессе и после возвращения родителей через пару лет ему уже было 14-15 лет, он кончил школу и пошел работать. В этом возрасте он уже был озабочен другими мыслями и планами, и о путешествиях с отцом мечтать было уже поздновато. Поэтому мысль отправиться в Сахару пришла им в голову, скорее всего, когда Леве было 11-12 лет, прекрасный возраст для такой идеи. И самое важное — эта поездка представлялась ему вполне осуществимой. Он уже не маленький мальчик, он физически сильный и выносливый, хорошо бегает и прилично играет в футбол. Он подрос, и родители отпускают его одного гулять на улицу, и он с пацанами часто убегает в порт, где каждый день причаливают и отчаливают громадные океанские корабли под флагами всех стран мира. И нет ничего невероятного в том, чтобы договориться с моряками на судне и на одном из них уплыть, например, в Африку, а до неё от Одессы не так уже далеко. Всего пару дней до Стамбула, там через Босфор, где корабли идут неспеша, и можно полюбоваться на Святую Софию, которая хорошо видна с корабля. После этого уже по Средиземному морю, мимо берегов Греции, Сицилии и Мальты прямо до африканского побережья и сойти с корабля в Танжере, откуда на попутных машинах или верблюдах до местечка Мекнес, откуда сразу же начинается бесконечная Сахара — хоть на юг, хоть на восток, хоть на запад, её размеры огромны и трудно даже вообразить, где она кончается.
Из Мекнеса надо отправиться на юго-запад. В порту чернокожие матросы с корабля под африканским флагом говорили, что взять напрокат одного верблюда (на двоих вполне достаточно) очень просто и стоит недорого. Путешествие по пустыне займет не менее двух недель, ночевать можно у берберов, в их шатрах. Всем известно, что берберы суровые, молчаливые, но при том очень гостеприимные люди. Конечным пунктом может быть Марракеш, но еще лучше городок Эс-Сувейра. В статье в журнале «Вокруг света» подробно описан этот старинный город, окруженный песчаными барханами. Там уже есть железная дорога до Касабланки. Надо взять билеты в общий вагон, в Африке они полностью открытые, в них не душно и из них удобно рассматривать окружающие пейзажи. А из Касабланки уж как-нибудь можно будет добраться домой. Этот маршрут надо будет проработать позднее. Все путешествие займет не больше месяца и отправиться в него можно в летние каникулы, времени вполне хватит, деньги он уже давно копит, а велосипед может подождать.
Так, или примерно так обсуждал Лева с отцом это путешествие, мечта о котором возникла после прочтения в журнале большой статьи о пустыне Сахаре. Обсуждали эту поездку они не один день, план и маршрут путешествия стал обрастать деталями, обдумывались всякие важные мелочи. Составлялся список вещей и припасов, которые было необходимо взять с собой. Я как-то прочел у одного известного писателя, что ему доставляло громадное удовольствие читать вот такие подробные списки того, что берут с собой путешественники и моряки в дальние странствия: от одежды, оружия и инструментов до бочонков с солониной, порохом и ромом. Я с ним полностью согласен. Я и сам занимался составлением подобных списков, когда мы с нашими институтскими друзьями готовились к турпоходам на плотах по сибирским рекам. Вот, одним из пунктов списка вещей, которые Лева с папой собирались взять с собой, были два брезентовых ведра, они ведь легкие и занимают мало места, а без них в Сахаре никак. Они были куплены, и это вселяло у Лёвы надежду, что путешествие в самом деле состоится.
В этом месте моих записок было бы логично продолжить рассказ о дальнейшей жизни моего дяди Левы, который в Сахару так и не попал, но которому в его непростой жизни пришлось побывать во многих других местах и пройти через очень непростые испытания. Знаю о нем не очень много, но даже того немногого, что осталось в моей памяти о нем, в рассказах мамы и в письменных воспоминаниях Бориса, его двоюродного брата, хватает, чтобы вы смогли представить его и понять, хотя понять его до конца трудно.
Я уже писал, что он родился в 1912 году, естественно в Одессе на Тираспольской улице, был старше моей мамы на 8 лет и, когда она подросла, случалось поколачивал её, дрался с ребятами во дворе, любил играть в футбол. Несмотря на аполитичность отца, «бывшего революционера», Лев вырос активным, и, судя по его поступкам, убежденным комсомольцем. Время было голодное, заказов у папы — ювелира-часовщика было очень мало, поэтому окончив в 1926 или 1927 году семь классов школы, он — довольно щуплый подросток с длинным еврейским носом — пошел работать котельщиком на одесский судостроительный завод им. Марти. Выучился профессии клепальщика: грел в горне с разогретым до красна углем заклёпки и ковал их полукруглые головки перед клепкой, ведь тогда корпуса кораблей не сваривали, а клепали. Работа была тяжелая. (Пройдет 80 лет и я, работая во ВНИИТВЧ, буду разрабатывать установки для нагрева точно таких же заклёпок перед клепкой рам железнодорожных вагонов, но уже не в горне, а в автоматических индукционных печах).
Еще до срочной службы, в 1928-м году, работая на заводе в Одессе, он по комсомольской путевке поехал на заработки в Сибирь, куда-то в район Байкала. Провел он там месяцев шесть, заработал денег для семьи, а кроме того привез оттуда в чемодане большой ком красной икры, завернутый в газету, размером с голову. Наверное, в те года это тоже был деликатес и, возможно, икру выгодно продали на рынке.
Потом, в 1932 или 33 году его призвали в армию и после краткой подготовки оправили в погранвойска. Служил он в районе белорусского городка Бигосово — на границе с Польшей и Литвой там, где «петух кукарекал на три государства» одновременно. Мама и Борис рассказывали, что он участвовал в задержании двух нарушителей на границе, причем одного задержал лично сам, когда, сбросив полушубок и валенки, бежал за ним по снегу и догнал в конце концов. Борис говорил мне, что сам видел фотографию Льва у развернутого знамени части, а это по тем временам считалось большим отличием. Пробыл он на границе три года и служил он, как видно, хорошо, потому что, демобилизовавшись в 1936 году, вернулся в Одессу в звании сержанта. На фотографии видно, что в петличках его гимнастерки нашито по два треугольника, в 1936 году такие знаки отличия были приняты в армии для младших командиров.
Ему уже исполнилось 27 лет, он продолжал работать на заводе, жил с родителями и через какое-то время неожиданно для всех познакомил родителей с девушкой по имени Муза, которая через год родила ему девочку. Никаких подробностей об этой истории, кроме того, что через пару лет Лев уехал в Ленинград, оставив в одесской квартире жену с маленькой дочкой, я не знаю. Уехал в Ленинград, где с 1932 года жила его тётя — Вера Борисовна с мужем и двумя детьми, Борисом и Маргаритой. Больше об этой мелодраматической истории, судьбе Музы и её дочки я ничего не знаю, мама мне о ней, очевидно, в воспитательных целях никогда не рассказывала.
В Ленинграде дядя, отец Бориса, устроил его на меховую фабрику «Рот-Фронт», где сам был техническим директором, и Лева стал работать там механиком — руки у него были по наследству от отца золотые. Работая на фабрике, он закончил платные курсы конструкторов. Потом начал работать конструктором на Кировском заводе, познакомился с молодой женщиной, имевшей 3-х летнего сына, стал с ней встречаться, а затем переехал к ней в её небольшую комнату в огромной коммунальной квартире, где жило еще 10 семей, на улице Толмачева, недалеко от Невского проспекта, и прожил там всю свою не очень длинную жизнь. После этого он в Одессу уже никогда не приезжал и о жене с дочкой не вспоминал. Такое впечатление, что он, как и остальные родственники, не чувствовал себя состоявшимся одесситом и не хотел связывать свою судьбу с Одессой; при первой возможности покинул её, полагая, что настоящая жизнь где-то там, далеко за пределами этого провинциального, по его мнению, города.
Кроме того, в декабре 1939 года он ушел добровольцем на советско-финскую войну, провоевав на ней все 3,5 месяца полностью в качестве сапера-разведчика, был легко ранен и награжден медалью. Что его толкнуло на это, какие душевные порывы им двигали — неизвестно и непонятно мне до сих пор. Понимал ли он реальные причины, приведшие к этой войне, явно агрессивной и несправедливой, плохо подготовленной, когда в бой бросали солдат не с автоматами, которыми были вооружены финны, а с обычными трехлинейками и не в валенках, а в простых кирзовых сапогах. В декабре и январе в Карелии стояли суровые морозы, и тысячи бойцов выбывали из строя из-за обморожения ног. Полной неожиданностью для советских войск и её разведки стала и линия Маннергейма — комплекс бетонных оборонительных сооружений, оснащенных артиллерией и пулеметами, в южной Карелии в районе поселка Каннельярви, (там неподалеку стоит теперь наша дача). Длительные попытки преодолеть эту линию советскими войсками, оснащенными легким пушками, не увенчались успехами, и только уже весной 1940 она была прорвана с помощью танков. Что у дяди Левы было на душе? Неизвестно. Ничего об этом он не рассказывал, а я по своей глупости не спрашивал. Вернулся он с финской войны весной 1940 года с легким ранением и опять стал работать на Кировском заводе конструктором.
11. Как дед паял сережки
Об отношениях деда с моей мамой в её детском и школьном возрасте знаю очень мало, хотя мама довольно часто в разговоре со мной вспоминала те года, что-то рассказывала об отце, но все это шло как фон, ничего не «цепляло» и в памяти не осталось. Все, что запомнилось, касалось рассказов о его работе. Неоднократно повторяла, что если бы дед был жив, то он непременно научил меня ювелирному делу. Не уверен, что талант ювелира передаётся по наследству, но был у меня период увлечения чеканкой по меди. С ювелирным делом не очень связано, но тоже дело довольно тонкое, один неверный удар молоточком и все — ошибку уже не исправишь. Одну из своих работ я подарил маме на её 50-летие, и она была очень довольна. Теперь эта чеканка висит у нас на кухне.
Мама рассказывала, что из Швейцарии помимо диплома часовщика отец привез и великолепный набор профессиональных инструментов в большом плоском кожаном чемоданчике. Внутри него были разнообразные инструменты, приспособления и какие-то специальные детали и насадки, которые были разложены в отдельных углублениях, затянутых сильно потертым от частого пользования бархатом. Как рассказывала мне мама, особо сложную работу он брал на дом. Это касалось ремонта карманных часов. Они могли быть серебряные или даже золотые, это не имело значение, главное — они, как правило, были швейцарские, со сложным часовым механизмом. Все они были снабжены крышкой, при открывании которой у некоторых часов звучала короткая музыкальная фраза. Для их ремонта, а они, несмотря на швейцарское происхождение, иногда ломались, требовался, конечно, профессионализм и опыт, а этого у моего деда было достаточно.
Мама любила часами сидеть около него и наблюдать, как он ремонтирует такие часы, предварительно разбирая их на части, раскладывая десятки миниатюрных шестеренок по маленьким фарфоровым чашечкам, а потом уже после ремонта удивительным образом безошибочно собирал их обратно. Иногда ремонт затягивался на несколько дней и ей строжайше запрещалось подходить к его рабочему столу и трогать эти чашечки. Видела она и как он ремонтировал сложные старинные каминные часы. Особенно было интересно наблюдать, как он изготавливал золотые цепочки, предварительно протягивая через миниатюрные вальцы или фильеры тонкую серебряную или золотую проволоку. Делал он колечки и сережки. Ей запомнилось, как он припаивал их малюсенькие детали одну к другой. Он зажигал обычную свечку, брал в губы тонкую керамическую трубочку и, чтобы увеличить температуру пламени, дул через трубочку прямо в её центр, разогревая детали сережки, спаивая их затем припоем.
На окончание школы отец купил дочке, продав свое обручальное кольцо, в Торгсине (о нем я напишу ниже) настоящие кожаные туфли-лодочки на высоком каблучке, мечту всех одесских девушек. Это было целое событие, потому что в Одессе у всех девчонок, да и парней тоже, повседневной обувью были парусиновые туфли на резиновой подошве. Они быстро пачкались и их чистили зубным порошком. В конце 30-х годов перед отъездом мамы в Ленинград, он сделал ей простенькое золотое колечко с аметистом. Она носила его, почти не снимая всю свою жизнь, до самого последнего дня.
Отношения у них были нежнейшие. Сохранилось всего одно его маленькое послание, адресованное моей маме. Написано оно на оборотной стороне фотографии, сделанной, примерно в 1931-32 году во время его поездки в Грузию.
«Родная моя! Уверяю тебя честным словом, что это я снят на коне. (На фото дед сидит на коне с саблей в руках, но конь и туловище всадника нарисованы на большом листе фанеры, и только лицо деда помещено в овальное отверстие). Но он (фотограф) изготовил меня таким помолодевшим, что и узнать меня трудно. Это снимок я сделал специально для Нонушки, пусть видит какой отец её храбрый. А выражение лица какое суровое — прямо джигит! Жаль лишь, что мало нахожусь здесь, в Сухуме, я малость отъелся и отдохнул. Но ночь просидел на пристани в ожидании парохода и измучился. Опоздание на 18 часов и его еще нет! Жду от тебя письма в Батуми, буду там числа 5-6-го». Вот, оказывается, были у деда и редкие дни отдыха, когда он смог «отъесться».
12. Идейные разногласия
Но больше всего мне бы хотелось узнать, о чем по вечерам или выходным дням разговаривали мой родной и мой двоюродный дед, которого я всегда называл просто Дядя, и как они относились друг к другу. На мой взгляд, они были абсолютно разными людьми и по характеру, и по взглядам, и по, как сейчас принято говорить, менталитету, т.е. по образу мышления и оценке происходящих событий, да и по отношению к людям, в конце концов.
Марк Абрамович — мягкий, интеллигентный человек с отзывчивой душой, не избежавший в молодости социалистических настроений и, в какой-то степени, пострадавший из-за них, и Або Петрович — жесткий и прагматичный человек, усмотревший шанс и не побоявшийся найти свое место в бурных и рискованных событиях Гражданской войны. Утерянная впоследствии справка о его службе в особом отделе неизвестного нам подразделения Красной Армии, говорит о многом. В Красной Армии служило очень много евреев, выходцев из местечек черты оседлости, живших в условиях постоянного унижения, беспросветной бедности и нужды, свидетелей диких по своей свирепости еврейских погромов, на их глазах пьяная чернь убивала и насиловала их матерей и сестер, и это навсегда впечатывалось в их память. Кровь пульсировала в их висках при виде тех, кого они считали врагом или причисляли к убийцам их родных. Они были жестоки и не долго размышляли не только во время боя, но и после него.
Служила в Красной Армии и вполне образованная еврейская молодежь — студенты университетов и городская интеллигенция, всей душой принявшая новую власть и видевшая в ней возможность коренного изменения жизни российских евреев. Среди них было много командиров, ставших в последствии известными советскими военачальниками и даже командующими во время Великой Отечественной войны. Все они, как правило, были далеки от осознания своего «еврейства», даже часто дистанцировались от него, представляя себя прежде всего советскими людьми и, как правило, убежденными коммунистам. Они-то дистанцировались, но им это напоминали, когда считали это необходимым.
Надеюсь, что мой дядя Або Петрович, служа в ЧК или работая в особом отделе, никого к стенке не ставил и приговоры не подписывал, но то, что ему приходилось принимать решения, от которых зависела судьба многих людей, это могло быть вполне. С Марком его объединяло только три момента: оба — евреи, женаты на родных сестрах и жизнь под одной крышей.
Идейными врагами они не были, но во многом их взгляды, конечно, расходились. Думаю, что, попав волею судьбы в Швейцарию, а затем в Германию, молодой Марк получил европейскую цивилизационную прививку, которая позволила ему взглянуть на многие вещи и проблемы по-иному. Понять, что добиваться лучшей жизни для себя и окружающих можно, не круша и не ломая все на своем пути, не заставляя страдать окружающих тебя людей. Хотя, как выяснилось позднее, это слишком идеалистическое восприятие Европы привело его впоследствии к трагической ошибке. Не думаю, что Аба Петрович был полным антиподом моего деда, но уверен, что он исповедовал совсем другие идеи, или их у него могло и не быть вовсе, только холодный расчет и здоровый прагматизм.
Были ли их разногласия в оценке прошлых и настоящих событий предметом обсуждения или даже споров? Думаю, что нет, т.к. они уже хорошо знали друг друга и понимали бессмысленность дискуссий. Они, как говорится, притерлись и общались, скорее всего, только на бытовые темы. Думаю, что мой дед сторонился дядю Або и был, наверное, рад, когда семья Эйдельбергов уехала в Ленинград. В своих воспоминаниях Борис писал, что с работой в Одессе было плохо, заработка не хватало, и отец активно искал работу в других городах. Работу он нашел в Ленинграде, куда поехал в 1931 году, где ему предложили должность технического директора на меховой фабрике «РотФронт», он же по специальности был скорняком и меховое дело знал хорошо. Чуть позже, в 1932 году он обменял свою комнату на комнату в доме на проспекте Динамо в Ленинграде, и они все вместе, с годовалой дочкой, которая родилась в 1931 году, туда уехали.
В Одессе в их комнату въехала семья, в которой кто-то был болен туберкулезом, что, конечно, омрачило жизнь остальных родственников и было поводом для еще большего охлаждения отношений между дядей и дедом. Квартира превратилась в коммунальную. По какой-то причине ни мама, ни тётя никогда не рассказывали об этих соседях. Наверное, они полностью дистанцировались от них и никак не общались, хотя как это им удавалась на общей кухне, мне непонятно.
13. Сосед
Рассказывая о жизни моих родственников в квартире на Екатерининской улице, нельзя не упомянуть об их соседе, который жил в квартире рядом на этом же этаже, звали его Александр Григорьевич Бродский. Вот каким его запомнил Борис:
«Бродский жил в квартире № 42 на той же лестничной площадке. Примерно, под 180-185 см роста, с холеной внешностью от ногтей с маникюром до хорошо уложенной шевелюры с седой прядью. Как сейчас помню: появлялся в халате, на голове чепчик черный, сетчатый и папироса — это он проснулся часов в одиннадцать и привел себя в порядок. У него было десятка два халатов и пижам, поэтому появлялся каждый день в новом. Комната у него была большая, примерно, 25-30 кв. м., но светильников в комнате было штук 30: над дверью, над столами, над тахтой даже два и т.д. Если он открывал шкаф, одновременно выдвигалась и зажигалась лампа, а затем выезжала вертушка с галстуками, которых было, я думаю, штук 100, не меньше. Мне кажется, что каждый раз, когда я его видел, он был в новом костюме. У него была домработница Вера и маленькая черная собачка. Его мать жила в Париже, он владел несколькими языками, работал в какой-то иностранной концессии и иногда бывал за границей. («Концессия» была распространенной в то время формой работы государственных предприятий, при которой они передавались во временное владение и управление иностранным фирмам. Владельцы фирм вкладывали деньги (инвестировали) в развитие предприятия, оснащали его современными станками, предоставляли рабочие места для местных рабочих, налаживали производство, но всю прибыль, с которой платили налоги, забирали себе. Через оговоренный в договоре срок концессия заканчивалась, и предприятие возвращалось государству. Помимо рабочего персонала на предприятии работали и специалисты с образованием, экономисты, коммерсанты, начальники производств, которых также набирали из местных жителей. Вот одним из таких хорошо оплачиваемых специалистов, работающим в иностранной концессии, и был Бродский).
Он часто бывал в нашей квартире. Любил играть с дедом в домино. Домино было белое с черной рубашкой, а на белой стороне золотые головки от четырех гвоздиков. (Оно каким-то чудом сохранилось и теперь лежит в той же круглой металлической коробке в нашем шкафу.) Играли в «телефон», это игра на четыре стороны, когда кости выкладываются крестом. Играли на деньги, с прикупом и с большим азартом. Вот тут доходило до такого состояния, что можно было подумать: сейчас подерутся, но папа их быстро успокаивал или вмешивалась тетя Сока — твоя бабушка, Софья Борисовна.
Однажды, он пришел к нам и пригласил пойти с ним в город. Он был одет в светлый костюм, соответствующие туфли и, главное, в руках трость с серебряным набалдашником в форме головы собаки. Пришли в Пассаж, в парфюмерный отдел, он поболтал с продавцами и купил несколько коробок духов. По коробке получили все женщины нашей семьи. (В то время это был царский подарок). Помню, когда Маргаритке был 1 год, а это было 17 января 1932 года, но отмечали его 19 января в день рождения твоей мамы, то он взял большое блюдо, положил на него Маргаритку и внес её в комнату, где все сидели за столом и поставил блюдо на его середину. Блюдо было холодным, и ребенок истошно плакал.
Много баб по нему неровно дышали, думаю, что и твоя бабушка».
Вот такие отрывочные воспоминания об этом человеке остались в памяти Бориса, тогда еще школьника. О нем много рассказывала и моя мама, он тоже, видимо, производил на неё сильное впечатление. Друзей и знакомых из «бывших», а Бродский был именно таким, с биографией и стилем жизни, сформировавшимися еще до революции и не желавшим с ним расставаться, у маминых родителей почти не было, хотя в 30-е годы в Одессе людей подобного толка было еще очень много. К ним относились в первую очередь врачи, преподаватели, инженеры, юристы, музыканты, квалифицированные ремесленники, т.е. те, кто зарабатывали себе на хлеб своими руками, своими профессиональными знаниями и талантом.
Бродский был неким связующим звеном между той прошлой жизнью, которая для деда и бабушки уходила, постепенно растворялась в тумане лет, и нынешним миром, в котором уже жила мама. Маме в то время было лет 15-16. Она часто бывала у него дома, там было много книг, зарубежных журналов и граммофон с пластинками с записью самых известных оперных певцов тех лет. Не исключаю, что моя будущая мама была им немного увлечена, в этом нежном возрасте это случается, а вот относительно бабушки ничего не знаю, хотя Борис намекает в своих записках. Но что он мог понимать в свои 10 лет? Наверное, ей было просто интересно с ним общаться, слушать о его поездках в Париж, чувствовать, что и она привлекает его. Бродский и его рассказы были, наверное, для неё окном в другой мир, в другую жизнь, о которой она мечтала в молодости.
В 1938 году Бродского арестовали, и он исчез навсегда, больше о нем уже никто ничего не слышал. В то время навсегда исчезали и совсем простые люди, а уж работников иностранных концессий сам бог велел арестовывать пачками. Думаю, что Бродский это предчувствовал. Всё его имущество оказалось впоследствии у его домработницы, Борис приезжал после войны и видел его вещи у неё в комнате. Повезло ей.
Но, вот, что еще вспоминал Борис:
«Из всех жильцов дома в Одессе был арестован только А. Бродский. А в городе — тихий, нестрашный сумасшедший по имени Ютка. В газете написали, что он шпион и пойман с поличным, когда он хотел передать в порту какому-то иностранному туристу куклу, в которой были спрятаны шпионские сведения. Этот Ютка мог зайти в кафе-мороженное, выбрать парочку помоложе и сказать: «Молодой человек, дайте 20 копеек или я плюну в мороженное Вашей девушке» (В других вариантах говорил, что «иначе я на вашу девушку брошу вошу»). Приходил в наш двор и кричал: «Мадам Фридман, я хочу кушать, дайте тарелочку бульона, и ему давали. Заворачивали в бумажку и бросали из окна или балкона мелочь. Мы знали его чуть-ли не с детства, знали его родителей. Был у него еще один коронный номер. Откуда-то у него оказывалась банка шпрот и французская булка, деликатесы по тем временам. (В те годы в Одессе существовали магазины «Торгсин», т.е. торговля с иностранцами. В этих магазинах можно было купить все, что душе угодно: импортную обувь и одежду и, конечно, любые дефицитные и деликатесные продукты). Он садился с ними в руках на трамвайные пути и начинал есть. Трамвай звонил, а он сидел и ел. Подходил милиционер и начинал его уговаривать. Бесполезно. Его любили и не обижали, не забирали. Продавщица цветов на углу давала ему розу или 20 копеек, и он перебирался на ступеньки углового магазина – угол Екатерининской и Дерибасовской».
Дядя с семьёй уехал в Ленинград в 1932 году, но в квартире людей не убавилось, вместо них в их комнату въехали совершенно чужие люди, но и они были не последними соседями, в конце 30-х годов в результате кампании по уплотнению социально чуждых элементов одну из двух комнат родителей моей мамы отобрали, и туда въехала семья водолаза с двумя детьми. Как известно, водолазы люди молчаливые, любят тишину и спокойствие, поэтому отношения с ними сложились нормальные. К этому времени Лев уже отслужил на границе, а потом уехал в Ленинград и успел повоевать на советско-финской войне. Мама кончила восемь классов и пошла работать на толевую фабрику.
14. Дед, Торгсин и карта СССР
Я уже несколько раз писал, что дед был высококлассным часовым мастером, получившим профессиональное образование в Швейцарии, а кроме того ювелиром и глубоким знатоком драгоценных камней и золотых изделий. Чтобы убедиться в этом, отрывочных воспоминаний моей мамы и Бориса было бы недостаточно, если бы не факт его работы в Торгсине и привлечение его к участию в работе по созданию одного уникального изделия, о котором немного ниже. В начале 30-х годов деду как-то удалость преодолеть кризис конца 20-х годов с его разрухой, голодом, и, самое главное, отсутствием работы — часы и колечки мало кого интересовали. Ремесленников, особенно частников, ограничивали как могли, запрещали приобретать драгоценные металлы и камни, и он стал работать на фабрике «Ювелирторг».
В эти же годы в стране продолжалась бурная индустриализация промышленности, для приобретения станков и оборудования в западных странах и в США требовалась твердая валюта. Несмотря на острую нехватку продовольствия и начавшийся в 30-31 годах голод, пшеницу с целью получения валюты в огромных количествах гнали за рубеж. За валюту продавались даже картины из Эрмитажа и Русского музея.
Еще одним способов добычи валюты стало создание в СССР государственной организации под названием «Торгсин», т.е. торговля с иностранцами. В сотнях магазинов Торгсина, открытых в крупных городах страны, можно было купить за твердую валюту качественные продукты: муку, крупы, масло, колбасы, сыры, различные деликатесы, а также хорошую одежду и обувь. Валюту в стране имели право иметь иностранные специалисты, которые, чтобы нормально существовать и кормить семьи, вынуждены были тратить её на приобретение продуктов, т.к. в магазинах их почти не было. Валюту, вернее специальные чеки-боны привозили из-за рубежа также и советские специалисты, которые там работали или ездили туда в командировки. Но постепенно главной целью существования Торгсина стало условно-добровольное принуждение населения нести в банки бытовое золото, серебро, ювелирные украшения, драгоценные камни, и, конечно, брильянты. Несмотря на то, что цены на продукты и товары в магазинах Торгсина были завышены в несколько раз, народ, особенно голодающее сельское население, вынуждено было, чтобы не умереть с голода, сдавать свои «фамильные» украшения. Как правило, это были обручальные кольца, цепочки и крестики. На полученные чеки-боны приобретались не деликатесы, а наиболее доступные по цене обычные продукты: мука, сахар, масло, что позволяло спасти от голодной смерти детей, больных и стариков. В отдаленные голодающие районы страны направлялся не хлеб, а передвижные лавки с названием «Торгсин», где можно было сдать золото и тут же приобрести, продукты, например, муку.

Торгсин в Одессе |
Спустя несколько лет, когда проблема снабжения населения хлебом стала исчезать, Торгсин помимо продуктов и промтоваров стал «продавать» квартиры, дачи, автомобили и даже путевки в санатории, что вызвало очередной приток золота, которое еще сохранилось у состоятельной части населения.
Драгоценности принимали в Банках, оценивали и выдавали специальные боны с обозначением в денежных единицах, но в отличии от обычного рубля, «заработанного» человеком своим трудом, на который нельзя было свободно купить, например, масло на боны, полученные за сданные драгоценности, масло отпускалось. Таким образом, полностью обесценивался труд человека. Боны, конечно, можно было купить за большие деньги и у спекулянтов, которых в Одессе было с избытком. На черном рынке за один торгсиновский рубль надо было заплатить 60 обычных советских рублей.

Товарный ордер,
|
За время существование Торгсина, с 1931 по 1936 годы, благодаря такому «дьявольскому изобретению ГПУ, население сдало 100 тонн чистого золота на сумму 275 млн. золотых рублей, что на сегодняшний день составляет 730 млрд. рублей. На эти средства было построено 9000 предприятий, среди которых все главные гиганты металлургической и машиностроительной отрасли СССР. Фактически, они были построены на личные средства советского народа. Нечто подобное существовало в СССР — и в 60-80- е годы, и после войны, но эти магазины назывались «Березка».
Для приема и, главное, для оценки драгоценностей в Банках понадобились опытные специалисты, одним из которых и стал Марк Абрамович Рутенштейн, мой дед и признанный авторитет среди знатоков драгоценных камней. Он мог с одного взгляда отличить поддельный камень от настоящего, что доказал однажды, огорчив своего друга армянина Акима, который числился сапожником, а на самом деле зарабатывал контрабандой, которой в порту было полно. Однажды Аким купил какой-то камень, как ему казалось драгоценный, пришел и показал его деду, а тот, бросив взгляд издали, мгновенно сказал, что это подделка. Аким был безутешен, т.к. отдал за стекляшку кучу денег.
Деда пригласили в один из одесских Банков, и он проработал там несколько лет. Вот детские воспоминания Бориса:
«Однажды, когда я был совсем маленький (наверное, 4-5 лет, это 30-31 годы) он меня взял в кладовую банка, где ювелиры сортировали изделия из золота и драгоценных камней. Это был период, когда конфисковали у «богачей» золото. Драгоценности принимали и сортировали в Банках. Он работал вместе с другим ювелиром по фамилии Милимовка. Помню, что я там ползал по горе подстаканников, цепочек и прочего. Было там полутемно и стоял странный запах».
Очевидно, что и мама, которой было уже лет 12-13, была на «работе» у отца, т.к. помнит, что только отцу доверялась не только сортировка, но и оценка драгоценных камней. Он раскладывал их по небольшим жестяным коробочкам, вкладывал туда опись с их названием, весом в каратах и указанием рыночной цены, закрывал и опечатывал своей печатью. Потом эти коробочки отправляли в Москву.
Думаю, авторитет, приобретенный дедом во время работы в Банке, послужил основанием для привлечения его как специалиста по драгоценным камням в очень необычном проекте. Я узнал об этом только в 2002 году из письма Бориса.
«Володя! Я не знаю, знаком ли тебе такой факт из биографии твоего деда, о котором я вдруг вспомнил. До войны в Москве, в Кремле создавалась большая карта СССР, где использовались ископаемые, добываемые в стране: от малахита до золота. Так вот, Марк Абрамович Рутенштейн, одесский ювелир, был приглашен в эту бригаду и работал довольно продолжительное время, как мне, помнится. Режим там был строгим, по его словам, но помню, что он был доволен, и, как мне кажется, в первую очередь тем, что его выбрали из многих. Возможно, мама тебе рассказывала об этом, а также о его работе в Торгсине и в банке. Везде были нужны его знания о золоте и брильянтах».
В самом деле, интересная история. Я прочитал это письмо в 2002 году и забыл про этот эпизод в биографии деда, а потом письмо затерялось. И только сейчас, когда начал писать эти записки, вспомнил о нем, нашел в папке с другими письмами и внимательно прочитал. Вызвали прямо в Кремль? Ювелира из Одессы? Мне показалось это сомнительным. Это только в пьесе Николая Погодина «Кремлевские куранты», действие которой происходит в начале 20-х годов, во время полной разрухи, когда даже часы-куранты на Спасской башне Кремля, одного из главных символов советского государства, остановились и для их починки в Кремль вызывается старик-часовщик, с которым по ходу пьесы случайно встречается Ленин и долго с ним беседует. Часовщика в 50-годы играл прекрасный мхатовский актер Борис Петкер, герой которого, не только на равных беседует Лениным, но при этом философствует, размышляет о происходящем, как и положено мудрому еврею. Вот, что писали критики в одной из статей об этом эпизоде в спектакле:
«Своеобразным талисманом «Кремлевских курантов» стал актер Борис Петкер, игравший во всех версиях совсем небольшую роль мастера-часовщика. Возможно, это был один из самых блестящих эпизодов всего спектакля. Этот образ чудаковатого старика, созданный Петкером, был одновременно глубоко романтичен. Он, подобно шекспировскому Гамлету, видит, что «распалась связь времен», причем, в случае Петкера видит это наглядно. Но в его власти эту связь восстановить».
Если к вызову моего деда прямо в Кремль, я отнесся с недоверием, то сам факт создания подобной карты вполне мог быть. И, в самом деле, нашел в Интернете много материалов о создании такой карты.
«Идея такого монументального произведения искусства, увековечившего в камне богатство природных ресурсов и экономические достижения Советского Союза, принадлежала наркому тяжелой промышленности Г.К. Орджоникидзе. Воплощение этой идеи в жизнь началось в 1936 году. Само изготовление карты было поручено тресту «Русские самоцветы» в Ленинграде. В общей сложности в работе было занято около 700 человек. Длина мозаичной карты-панно из драгоценных камней и поделочных самоцветов составляла почти 6 метров, ширина 4,5 метров, площадь 26,6 кв. метров, а весила она 3,5 тонны. Она состояла из 98 секций, раздел которых производился по линиям параллелей и меридианов. Карта была выполнена в технике флорентийской и русской мозаик и представляла собой невиданный по масштабу и ценности использованных материалов проект. В перечислении самоцветов, использованных в карте, упоминаются изумруды, александриты, аметисты, топазы, аквамарины, выращенные рубины и сапфиры, а также различные яшмы Урала и Алтая. Оправы камней, названия городов и промышленных центров, сеть железных дорог, линии параллелей и меридианов были изготовлены из золоченого и платинированного серебра. Рубиновой звездой сверкало слово «Москва», а в ее центре размещались скрещенные серп и молот, усыпанные мелкой бриллиантовой искрой, а надпись: «Ленинград» блистала александритами».
Такова история карты «Индустрия Социализма», которая была удостоена премии Grand Prix на всемирной выставке 1937 году в Париже, а позже в 1939 году в Нью-Йорке получила золотую медаль, в создании которой оказывается принимал участие мой дед, во что я, безусловно, верю, вот только вызывали его, конечно, не в Кремль, а на Ленинградский завод «Русские самоцветы», где его знания и опыт ювелира были востребованы. Пробыл он там долго, работы для ювелира было очень много, а убедиться в этом можно, если взглянуть на эту уникальную карту, которая выставлена теперь в музее Геологического института в Петербурге, но таблички с фамилией Рутенштейн там нет, также как и фамилий остальных авторов.

карта «Индустрия Социализма» |
После возвращения деда из Ленинграда, он попал в автомобильную катастрофу, из-за травмы ушел с фабрики на инвалидность, стал работать на дому, изготавливая красивые комбинированные пуговицы, пряжки и другие нехитрые изделия, и это был его единственный заработок, он не имел возможность заниматься другим делом.
Об этом факте мама сочла необходимым написать в своей автобиографии, которая прикладывалась к Анкете при поступлении на работу или в учебные заведения. Упомянула — наверное, это было важно.
15. Мы с Тамарой ходим парой
С финансами стало в семье совсем напряженно, поэтому закончив восьмилетку, маме пришлось пойти работать в упаковочный цех толевой фабрики «Ремстройтреста». На фабрику это тоже не тянуло, скорее, большая артель. Работа была тяжелая и грязная, но зато в трудовой книжке появилась запись «рабочая». Поэтому, проработав два года и занимаясь по вечерам на подготовительных курсах и сдав экстерном за среднюю школу, у мамы появилась возможность поступить на первый курс одесского вечернего финансово-экономического института. Еще в школе, а потом в институте у мамы появилось несколько подружек. Тесные и теплые отношения с ними сохранились на всю жизнь, а особенно с Тамарой, которая на долгие годы заняла в маминой жизни важное место.
Лет в 15-16 они стали часто ходить в Одесский оперный театр, который был в двух шагах от маминого дома. За пару лет, они переслушали почти все оперы, знали наизусть самые знаменитые арии, ходили специально и по несколько раз послушать своих любимых певцов. В те годы в СССР одной из оперных звезд был Николай Печковский, народный артист, орденоносец, солист Ленинградского театра оперы и балета, любимец публики. Несколько раз он приезжал в Одессу и пел различные партии в одесском театре. Он пользовался огромной популярностью, особенно у дам и молодых девушек, которые все поголовно были без ума от сладкоголосого тенора. Попасть на его выступления было почти невозможно, но, как рассказывала мама, они с Тамарой с вечера занимали очередь в кассу, сменяя друг друга всю ночь, благо дом был рядом, и утром билеты удавалось купить.
У Печковского сложилась нелегкая судьба. Осенью 1941 года, буквально накануне полной блокады города, он поехал в поселок недалеко от Ленинграда, чтобы вывести оттуда свою мать, но попасть обратно в Ленинград уже не смог, немецкие войска замкнули кольцо окружения. Он остался в поселке с матерью совершенно без средств и продуктов, и чтобы не умереть с голода, стал выступать перед местным населением. Когда об этом узнали немцы, то сначала они нашли его и включили в свой фронтовой концертный ансамбль, а затем переправили в Ригу, и он начал давать сольные концерты в Вене, Таллинне и других европейских городах. В 1944 году он сдался советским войскам, был судим и получил 10 лет за сотрудничество с врагом.
Годы заключения прошли для него не очень тягостно, т.к. ему дали возможность петь и даже организовать и руководить небольшим театром на севере страны. Талантливых актеров с похожей судьбой в лагерях было много. После освобождения он продолжил петь, но выступать в Москве и Ленинграде ему было запрещено. Наверное, можно было бы и не упоминать о нем в этих записках, но мама так часто рассказывала, как они с подружками после его выступления кричали с галерки «Печковский, Печковский!», что решил уделить ему пару строк.
Тамара в отличие от мамы, которая была послушной и даже застенчивой домашней девочкой, была более раскрепощенной и веселой девушкой, а её формы выгодно отличались от маминой подростковой худощавой фигуры. Конечно, у них появились знакомые ребята, с которыми они ходили на пляж купаться и загорать. Надо сказать, что «Одесский пляж» в Одессе был не просто песчаным или галечным куском берега вдоль моря, он был важной составляющей жизни одесситов. Он заменял им нынешние «социальные сети», форумы и чаты, он был любимым местом отдыха всех слоев населения. Здесь проводили свободное время целыми семьями. Прямо на камнях стояли корзинки с едой, тут кормили и одновременно воспитывали детей, и отсюда родом старая, как свет, фраза «Бора, выйди из мора».
Именно на пляже можно было получить последние сведения о городской жизни и достоверные слухи из жизни одесских знаменитостей. И конечно, пляж был местом знакомства молодых людей. К несчастью, мама была белокожей и на солнце нещадно обгорала, поэтому всегда искала тень или уходила домой раньше других. На фоне своих загорелых и пышногрудых подружек она проигрывала, и не могла, как ей казалось, рассчитывать на внимание ребят. Возможно оно так и было, потому что в её рассказах о своей жизни в конце 30-х годов имена её подружек упоминались многократно, а имен ребят я не помню. При этом её лучшая подруга Тамара таких проблем не испытывала, вокруг неё постоянно кружились молодые люди, с которыми она появлялась и в доме у мамы. Моя будущая бабушка, которая очень хорошо относилась к Тамаре, но сдержанно к её кавалерам, увидев очередного нового парня у себя дома, сказала одну замечательную фразу, которую привожу дословно, т.к. мама часто её повторяла. «Тамарочка, зачем все сегодня? Оставь что-нибудь на завтра».
Не знаю, переживала ли мама, что у неё не было постоянного молодого человека, но о том, что с удовольствием проводила много время дома с родителями, мне рассказывала. В институте, где она училась, опять ужесточились требования к социальному статусу студентов, который у мамы все еще хромал, и она стала планировать переход в другой институт и, возможно, переезд в другой город. Интуитивно хотелось побыть больше с родными.

Мама с родителями |
Однажды Тамара познакомила маму с молодым человеком, студентом одесского института инженеров морского транспорта, с которым сама недавно познакомилась, но похоже никаких серьёзных планов не строила. Этого молодого человека звали Исаак Червинский. Друзья называли его Изя, уменьшительно Изенька. Наверное, Изя для русского уха звучит непривычно, даже как-то смешно, но так трансформируется библейское имя Исаак в еврейских семьях, так же как, например, Исмаил в Ису в мусульманских или, как Елизавета в Лизу, Лизаньку в русских семьях.
Процесс ассимиляции евреев в России привел не только к тому, что русский язык стал основным языком общения между евреями, а в русскую литературу пришли блестящие писатели и поэты еврейского происхождения, но и, к сожалению, постепенному вытеснению или к замене традиционных еврейских имен, имеющих библейские корни, на русские, близкие по звучанию. Например, при рождении младенца ему давали имя Мойша, а потом в школе или на работе имя меняли на «Михаил», а Абрама — на «Аркадия». Многие известные актеры и писатели даже меняли свои еврейские фамилии, которые считались неблагозвучными, на русские «красивые» фамилии. Лайзер Вайсбен стал любимым советским артистом Леонидом Утёсовым, а Анатолий Аронов стал известным и любимым детским писателем Анатолием Рыбаковым.
Постепенно, а после войны почти повсеместно, в еврейских семьях мальчиков перестали назвать Абрамами, Моисеями или Соломонами, а девочек Сарами, Рахилями или Суламифями. Латентный антисемитизм коверкал не только русские души, но и подспудно влиял и на еврейских родителей. А жаль, это же красивые древнееврейские имена, восходящие к библейским истокам. Откройте Библию и в главе, которая называется «Книга песни песней Соломона» вы познакомитесь с блестящими образцами любовной лирики, в которых царь Соломон объясняется в любви к молоденькой девушке Суламифь, встретившейся ему случайно в горах. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими. Волосы твои – как стадо коз, сходящих с гор Голландских. Зубы твои — как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни. Как лента алая губы твои, и уста твои любезны» …и т.д. так высоким белым стихом обращается царь к Суламифи. Уверен, что и в наше время нашлось бы немало девушек, которым подошло это красивое имя — Суламифь.
Писал ли мой будущий папа нечто подобное моей будущей маме, я не знаю, но точно известно, что новый 1939-й год мама встречала в компании друзей, где был Изя Червинский, а Тамары не было.
Летом 1939 года мама перевелась на третий курс дневного отделения Ленинградского финансово-экономического института, а Изя, закончив свой институт, уехал на работу в Мариуполь, но отношения, которые завязались во время встречи Нового года, остались, и они стали переписываться. К сожалению, эти письма не сохранились.
В этом месте, позволю себе немного отклониться от основной темы этих записок — истории маминых родственников — и поместить здесь небольшие выдержки из воспоминаний, одного из ближайших друзей Изи Червинского, Иосифа Борисовича Чудновского, чУдного (извините за каламбур) человека. В них не только о папе, но и немного об Одессе конца 20-х и середины 30-х годов, как говорится, из первых рук.
16. Папина Одесса
«В начале сентября 1926 года я, тринадцатилетний оболтус, пошел учиться в 6-й «А» класс Одесской трудовой школы №49. Школа помещалась в доме во дворе Католического храма-костела, считалась строгой, «буржуйской», т.к. была, если не платной, то «добровольно» спонсируемой родителями учащихся, и в основном там учились дети кустарей и других категорий выживших нэпманов или их уцелевших наследников, и старших служащих.
Доброжелательная, приветливая, симпатичная Наталья Константиновна, классная руководительница 6 «А» класса, усадила меня на парту со свободным местом. Не ней уже сидел мальчик моего возраста, чуть выше меня, но тоньше — я был коренастым крепышом и среди сверстников пользовался «физическим авторитетом». Это был Изя Червинский. Мы сразу понравились друг другу, подружились, и эта дружба, вблизи или на расстоянии, продолжалась до его преждевременного ухода из жизни в 1976-м году, т.е. около полувека.
Мы никогда не писали друг другу, никогда ни слова не произносили о своих дружеских чувства, бывало, что годами не виделись, но всегда каждый из нас был уверен: у него есть друг, настоящий друг с большой буквы. За несколько лет до этого, когда в Одессе бушевал ужасный голод, Изин отец, как многие другие инициативные одесситы, поехал на попутных подводах в деревню, в одно из окружающих город немецких, румынских, молдаванских и украинских, богатых продуктами, селений, менять домашнее добро на пищу для семьи, но в дороге был ограблен и убит… Мать Изи была энергичной, властной, внешне интересной женщиной, хорошей хозяйкой и доброй, но требовательной, в пределах разумного, матерью.
Через несколько лет после гибели мужа, она вышла вторично замуж за хорошего человека, кустаря-механика, у которого была своя маленькая ремонтная мастерская. Он хорошо относился к своим двум пасынкам, любил жену. Я пишу «к двум пасынкам», т.к. у Изи был старший брат — Миша. Он раньше окончил нашу же школу, работал, а затем переехал в Ленинград, поступил в институт (или академию), гражданской авиации. Учебой «не злоупотреблял», а больше увлекался полубогемными компаниями начинающих писателей и поэтов, т.к. тоже имел склонность и талант к литературному творчеству. Не помню точно, закончил ли он институт, но авиатора из него не получилось. Уже после войны, на которой он получил тяжелое ранение, в счастливый для него год, Миша встретился с вышедшим из заключения талантливым литератором Владимиром Массом. Они объединили свои усилия, и Мишина карьера пошла круто в гору. Они написали много хороших и интересных вещей, даже для Райкина, даже для Дунаевского и Шостаковича. (Владимир Захарович Масс — известный и талантливый писатель, сценарист, художник, один из авторов сценария фильма «Волга-Волга — был арестован по надуманному политическому делу и работал в одном из северных лагерей, впоследствии полностью реабилитирован).
В нашем классе было много великовозрастных, в «соку» девиц мелкобуржуазного происхождения и воспитания, которые не слишком интересовались учебой, а больше нарядами, флиртом, кавалерами, интригами на своем уровне, сплетнями и выяснениями отношений. У нас мальчиков был возраст, когда возникает много интимных вопросов, чувств, желаний, ощущений, и окружение зрелых барышень этому способствовало. Часто бывали в домах девичьих родителей вечеринки с танцами под граммофон, игрой в карты, вращение бутылочки, поцелуями и прижиманиями в укромных уголках. «Подбирались» женихи. Комплектовались пары. Была очень внешне интересная, цыганского типа Катя Хасапова, 16-ти лет, дочь юриста. Это была местная Клеопатра. Она нравилась всем мальчикам, в том числе Изе и мне, но свою благожелательность с правом «подержаться» передавала, как переходящий приз тому из ребят, кто ей был в данное время нужен для подготовки к очередной контрольной или очередному экзамену. Я бывал «лауреатом», когда приближалась опасность по математике, литературе, обществоведению, а Изя — по биологии и, особо, по географии. Фаворитом был Тодик Черняховский, действительно талантливый мальчишка, погибший в первый день войны 1941 года. Но мы не ревновали друг друга, относились к этому философски, иронично.
До сих пор помню учителя русской литературы Евгения Петровича Ершова. Это был артист в полном смысле, в лучшем смысле этого слова. Он прививал и привил нам горячую любовь к чтению.
Важное значение в жизни молодых одесситов имел угол Екатерининской и Дерибасовской в то время, в наши студенческие годы, да и сейчас, это так называемый ПУП, т.е. центр, а вернее начальный пункт ежевечернего «променада». Правая половина Дерибасовской улицы именовалась «Пижонштрассе, а левая половина «Сбродвейстрит». Днем обе стороны были «равноправны», а вечером строго «специализированы». На первой половине циркулировали от «пупа» до «финиша» и обратно модные молодые парни и девицы и те, кто стремится быть модным, т.е. полусвет, начинающие артисты и музыканты, средней известности спортсмены, начинающие литераторы и журналисты, торговые моряки дальнего плавания, средней руки спекулянты, жрицы любви средней стоимости и их покровители, «приличные» хулиганы и т.п. На левой половине демонстрировали свои прелести домработницы, так называемые в будущем «лимитчицы», приехавшие парни и девушки в город «гулять» жители области, рядовые и сержанты армии и флота, торговые моряки каботажного плавания, мелкие торгаши, «легкие» девочки, не самые дешевые, но доступные по цене массовому потребителю и их защитники и т.д.
На финише Дерибасовская улица упиралась в Преображенскую (на ней был «Гамбринус») и через неё в Соборную площадь с неописуемой красоты большим Собором, который, не помню в каком году по команде одного из руководящих вандалов был взорван. На Соборной площади днем гуляли мамы и няньки с детьми, отдыхали на скамейках среди зелени прохожие и пожилые люди, а вечером площадь превращалась в полигон самых дешевых почитательниц древнейшей профессии, их заказчиков и их обслуживающего персонала. Туда глубоким вечером ходить не следовало.
В наши студенческие годы на Дерибасовской, несмотря на обилие публики и её разнохарактерность, было обычно спокойно. Бывали конфликты, мелкие стычки, но локально, не крупно. Это благодаря тому, что «держал» улицу и весь район крупный криминальный авторитет Эйзик Каплан. Это был среднего роста, широкий в плечах парень огромной силы, с феноменальной силы ударом, которым сбивал с ног любого противника, у которого затем констатировали либо перелом челюсти, либо сотрясение мозга, либо и то, и другое. У него, как у каждого владыки, было окружение, в том числе младший брат Женька. Если Эйзик был по своему разумным, логичным, спокойным и без нужды не агрессивным, то Женька, пользуясь славой брата, был мелким, нахальным, дурным, похабным хулиганом. Брат предупреждал: «За падло Женьку не отвечаю» Но проверить это программное заявление охотников было мало. Правда, Женьку изредка поколачивали.
Изя увлекался спортом, участвовал в городских марафонах. Горячо болел за «Черноморца», а до него за знаменитую тогда одесскую команду «Местран» с фаворитом-центром Злочевским. Занимался тяжелой атлетикой и классической борьбой, был крепким, физически развитым, сильным, высоким, широкоплечим парнем. Думаю, что гири еще в молодые годы нанесли урон его сердцу, которое его подвело в сравнительно еще не старые годы.
Эйзик так же занимался «железом» и борьбой. На тренировках Изя с ним ближе познакомился, конечно, не подружился и не имел никого отношения к его криминальной компании, но при встречах на «променаде» здоровался за руку, что для нас всех было очень почетно! Это была своего рода «индульгенция». В войну Эйзик с друзьями в Ташкенте надел форму чекистов, с подложными документами под маркой обысков грабил квартиры. Был пойман, судим и расстрелян.
В Одессе, конечно, было много ресторанов. Кафе тогда не котировались. Самым популярным, модным и любимым «кадрами» правой стороны Дерибасовской был выходящий на неё ресторан бывшего владельца Печеского. Он так и назывался: «Печеский» или просто «Кабак», а чаще «Яма». Там играл маленький оркестр, было недорого, доступно, шумно и весело. Посетители: полусвет, богема, фарцовщики, валютчики, «культурные» уголовники и хулиганы и студенты, жаждущие ухватить кусочек «роскошной» жизни. Часто после театра или концерта заходили артисты и «светская» публика – «ах, ах там так интересно, такой типаж, но опасно — драки, поножовщина». В «Яме» танцевали. Мы не очень увлекались танцами, но нас не минул этот вид «спорта». Изя хорошо танцевал, даже получил приз на одном из конкурсов. Правда, я был в жюри, но танцевал он действительно хорошо! Самым роскошным рестораном был «Лондонский» при гостинице того же названия. Редко, но бывали мы и в нем, для престижа, т.к. не очень его любили — дорого, публика иностранцы и «высший свет» а главное — натянуто, скучно. Правда, играл роскошный оркестр, и выступали эстрадные артисты.
В 1928 году мы закончили школу- семилетку. Нам было по 15 лет. Нужно было доучиться до полного среднего образования, если хотели попасть в институт и набрать не менее двух лет производственного стажа, так как по происхождению мы не были «гегемонами». Дальше было училище, потом техникум, затем работа на заводах и только в 1935 году поступление в институт инженеров морского транспорта.
С своей будущей женой Нонной Изя познакомился еще в 1939 году в Одессе, но «бурного» ухаживания не произошло. Они встретились в 1940-м году, когда Нонна училась в Финансовом институте в Ленинграде, а Изя работал в Таллинне. Дела развивались бурно, и летом 1941 года они расписались, а я имел честь быть свидетелем этой исторической эпопеи!
22.02-04.03. 1999 г.
P.S. Много уделил внимания Дерибасовской улице. Это не случайно. Это потому, что для одессита, который ориентирован не на Молдаванку, не на Пересыпь, не на Бугаевку, а на центральную часть города и порт, Дерибасовская не просто улица. Это идеология. Это жизненная позиция. Это мировоззрение. Это психологическая направленность. Это источник анекдотов, слухов, сплетен, прогнозов. Это мода и создатель мнений. Это жизнь».
17. Бабушка Сока
Слово «бабушка», как правило, рождает в нашем сознании образ уже весьма немолодой женщины, маму кого-то из наших родителей. Как правило, уже немного полноватую, с седыми или крашенными волосами, затянутыми в узелок на затылке, одетую просто, часто не по моде, но всегда добрую, улыбчивую и ласковую. Бывают, конечно, исключения, но тогда таких называют уже «бабками». Когда мне приходилось в своих записках упоминать мамину маму, то называть её бабушкой у меня язык не поворачивался, поэтому я часто писал «моя будущая бабушка». Вот и в семье все домочадцы и внуки звали её не бабушка, а просто Сока. Ну, как называть бабушкой эту молодую или средних лет красивую, со вкусом и изяществом одетую женщину, которая смотрит на меня со старых пожелтевших фотографий.
Их сохранилось не так много, но на всех запечатлена женщина с аккуратной и стильной прической, малозаметным макияжем, безупречным маникюром, с украшением на тонкой шее и изящных запястьях, с пристальным взглядом умных и добрых глаз. Что может быть стильнее и моднее, чем «маленькое черное платье», которое моя будущая бабушка, наверное, придумала и стала носить раньше, чем легендарная мадмуазель Коко Шанель, и фотографировалась только в нём.
Она получила хорошее гимназическое образование, но не имела никакой профессии, если не считать профессией материнство, супружество и созидание семьи и дома. Исключая недолгие счастливые и почти безмятежные годы жизни со своим Маркушей, как она называла моего деда, на Тираспольской улице в благополучной и уютной буржуазной Одессе до начала Первой мировой войны, то вся остальная жизнь состояла из бесчисленных преодолений трудностей, тревожного ожидания перемен, переживаний и огорчений. Я уж не говорю про трагедию 41-го года, но об этом позже.
По рассказам мамы и по тому, как бабушка с достоинством смотрит на нас с фотографий, я понимал, что, несмотря на все испытания, выпавшие в её жизни, она всегда была спокойна, ни на кого не повышала голоса, никогда не жаловалась на усталость, умела дистанцироваться от неприятных ей людей, не вступала ни с кем в споры и ничего не говорила плохого за глаза о ком либо, хотя в глаза могла сказать человеку то, что думала и то, что он заслуживал.
 
Моя мама |
К концу 30-х годов, в квартире осталось, не считая соседей, только три человека: Сока, дед и Манюшка, которая все дни пропадала на своей фабрике. Еще в 1932 году тётя с семьёй уехала в Ленинград, Лёва был в армии, моя мама уехала в 1939 году учиться в Ленинград. И, хотя, мама приезжала на каникулы в Одессу и даже провела дома целый месяц накануне войны, когда в апреле 1941 года проходила в Одессе практику перед защитой диплома, Сока очень скучала. Вечерами уходила на балкон, читала, там же писала письма и смотрела на арку, ведущую во двор, ожидая, что вдруг там появится её Нонушка и помашет ей рукой. Нонушка больше не приехала, но в начале мая 41 года под аркой появилась и помахала ей рукой её племянница Маргариточка, которая приехала в Одессу на все летние каникулы.
Вот все, что я могу написать о Соке, маминой маме, моей бабушке, с которой мне не привелось познакомиться.
18. Одесская кухня
Описание житья-бытья моих родственников в квартире на Екатерининской улице хотелось бы закончить на их кухне, а точнее за их обеденным столом. Интересно было бы узнать, что они готовили и что ели. При этом, надо, конечно, исключить все 20-е годы полностью, в те годы было не до рецептов и кулинарных изысков, ели то, что удавалось купить или достать. Но в середине 30-х годов и перед самой войной, «жить стало лучше, жить стало веселее» (это цитата из выступления Сталина, которая очень часто встречается в литературе), и одесская кухня стала лучше и многообразнее. К сожалению, никаких записей и письменных воспоминаний на эту тему не сохранилось, но думаю, что не сильно ошибусь, если предположу, что готовили и ели они ровно то же самое, что и в других одесских семьях, и уж тем более то, что потом готовила моя мама и другие мои одесские родственники. Кулинарные гены никуда пропасть не могли.
Еврейская кухня древняя, как и сам еврейский народ. Ей посвящены целые тома исследований, обзоров, кулинарных книг на всех языках мира, но самое главное, что отличает её от других кухонь мира, это целый свод ограничительно-запретительных правил, часто трудно объяснимых и непонятных, в том числе и евреям, если только они не настоящие иудеи и талмуд для них не настольная книга. Основное требование к еде, которую подают на стол правоверным иудеям, это её кошерность. Эти правила приготовления еды необходимо неукоснительно соблюдать с момента, когда режут курицу или корову, к чему допускается исключительно только специальный человек-резник (отсюда и очень распространенная фамилия Резников) и ни в коем случае свинину, в этом вопросе иудеи и мусульмане — теснейшие братья, до строжайшего регламентирования сочетания блюд. Наиболее известный запрет касается мяса и молочных продуктов, их нельзя не только смешивать, но для их приготовления надо использовать отдельную посуду и не дай бог её перепутать. Самое интересное, что кошерным может быть не только блюдо еврейской кухни, но и любой другой нации, важно, чтобы соблюдались правила. Я сам стоял у дверей китайского ресторана в Хайфе, где было написано: «Заходите, у нас все кошерно».
Но в этом небольшом отступлении от основной темы моих записок я не собираюсь исследовать эти особенности питания верующих иудеев, а хочу познакомить с главной особенностью одесских обычных евреев, если и не воинствующих атеистов, то просто уважительно-равнодушных к религии предков. По моим личным наблюдениям главная особенность кухни обычной еврейской нерелигиозной семьи, это её экономичность и рациональность при абсолютной интернациональности.
Шашлык из свинины или тефтели в сметанном соусе, да пожалуйста и с превеликим удовольствием. Кухня евреев, живших в странах центральной Европы и в западных областях Польши, Литвы, Белоруссии и Украины, их называют ашкенази, как правило бедных, всегда отличалась от кухни евреев средиземноморских стран и ближнего востока (сефардов) своей скромностью. Сефарды, например, могли себе позволить морскую рыбу и морепродукты, баранину, овощи, бобы, качественное оливковое масло. Поэтому, «нашим» евреям приходилось находить способы использования рационального, почти «безотходного» способа использования более доступных продуктов. Этот принцип сохранился при приготовлении еды и в наше время во вполне обеспеченных семьях.
Когда моя одесская бабушка (мама моего отца), у которой я иногда проводил летние каникулы, покупала на базаре курицу, обязательную живую, то она шла в дело почти на 100%. Из грудки делались котлетки, шкурка, потроха, немного мяса перемалывались, добавлялась мука, куриный жир и этим фаршировалась куриная шейка, остальная тушка шла на приготовление наваристого бульона с лапшой домашнего приготовления. Даже лапы, очищенные от кожи и петушиные гребешки, которые накапливались за несколько недель, тоже шли в бульон, от которых он становился более наваристым. Шкура шла также на приготовление шкварок, которые добавляли в кашу или в отварную картошку. Таким образом, одна курица обеспечивал семью на два дня.
Рыбы на одесском базаре было, конечно, много, но она, как говорится, «кусалась», цены всегда были высокие, поэтому доступными были более демократичные «глосики», такие небольшие, размером с ладонь камбалы и, конечно, черноморские бычки, их было очень много и стоили они недорого, продавались «снизками», т.е. нанизанными на веревку по 10-15 штук в зависимости от размера. Когда хозяйка шла с ними с базара домой, то часто в одной руке у нее висела пара живых кур, а во второй болталась, касаясь тротуара, снизка бычков. По форме бычки похожи на ершей — небольшие, с большой головой и выпученными глазами, и такие же наваристые как они. Их тушили в низкой большой кастрюле с небольшим количеством воды, с добавлением лука, моркови, свеклы, зелени и, наверное, каких-то специй. В результате, получалась наваристая «юшка» коричневого цвета, которую ели, макая в неё булку, вместе с бычками, правда, в них костей было больше, чем мякоти. Каждый обед сопровождался салатом из помидоров, огурцов и лука, заправленного, конечно, ароматным постным маслом. В салат часто добавлялись кусочки соленой черноморской скумбрии, запомните, именно черноморской, которая в Черном море извелась почти полностью, которая к тихоокеанской однофамилице отношения никакого не имеет, по вкусу уж точно.
По праздникам или по случаю прихода гостей покупалась какая-нибудь крупная рыба: кефаль, судак или лещ, её резали на порционные куски и фаршировали. Из каждого куска острым ножом аккуратно, не повреждая кожу, вырезалась вся мякоть, которая смешивалась с булкой и луком, перцем и солью, пропускалась через мясорубку, и этой смесью фаршировались куски рыбы. Потом они долго тушились в казане вместе с головой, хвостом и плавниками в крепкой юшке. Помимо того, что это безумно вкусно, такой способ приготовления рыбы очень экономичен, не пропадает ни один кусочек рыбы.
В Одессе существовали две «школы» приготовления фаршированной рыбы – способ сухой и мокрый, когда куски рыбы подавались с подливой из юшки, и у каждого были свои сторонники и фанаты. Мне нравился мамин рецепт приготовления — сухой. Но это была праздничная еда, а в будни часто покупалась мелкая дешевая рыбешка типа хамсы или тюльки, её жарили, но чаще рубили сечкой на мелкие кусочки, заливали яйцами, добавляли немного муки, рубленную зелень, перемешивали и жарили в виде небольших котлеток, причем прямо с головками, хвостиками и хребтом. Косточки у них мелкие и даже полезные для человека. Вообще, все что можно старались превращать в фарш или паштеты, экономичность была на лицо.
Форшмак из селедки тоже гениальное изобретение еврейских бедняков, но это действительно вкусно, если кусочки селедки пропустить через мясорубку, добавить лук и несколько долек антоновских яблок. Бутерброд с маслом и форшмаком — великолепная закуска к рюмке холодной водки, которую евреи уважают не меньше, чем их русские соседи и друзья. Чего никогда не было на столе в Одессе, так это колбасы и сыра.
На десерт часто готовился «цимес» или «цимус». Это слово часто употребляется и в современном языке вне кухонного контекста, когда хотят отметить в каком-то явлении или процессе нечто главное, важное, основное говорят: «в этом заключается цимес». Готовили его из нарезанной кусочками моркови или фасоли. Их долго тушили в небольшом количестве бульона, добавляя в них сухофрукты — изюм и чернослив, получалось очень вкусно. Чай пили редко, почти всегда варился компот из свежих или сушеных фруктов и ягод, пили его холодным. В Одесскую жару это был чудодейственный напиток. Когда мы с родителями уезжали из Одессы домой, то всегда везли с собой в высоких керамических банках густейшее сливовое повидло, которое всю зиму ели, намазывая его на кусок черного хлеба с маслом.
Так готовила бабушка, почти так же готовили тётя Вера и моя мама, поэтому могу предположить, что тоже самое было до войны на столе моих родственников в квартире на Екатерининской. Но хочу напомнить, что были в Одессе времена, когда на столе у маминых родителей была в лучшем случае перловая каша с постным маслом. В 20-х годах в Одессе царил голод.
Если отбросить голодный период с 20-го по 30-й годы, то надо сказать, что до революции и потом, уже в 30-е годы, изнуряющей нужды и, тем более, голода в Одессе не было. Прокормиться людям в Одессе, даже с совсем скромным доходом было несложно. Большой ломоть свежего хлеба, спелая сочная помидорина с ароматным постным маслом, густая уха из бычков или любой другой дешевой черноморской рыбы, которой были завалены одесские рынки, горячий початок вареной кукурузы или «пшенки», как её называют в Одессе, вот типичный обед портового грузчика или биндюжника. А еще большой кусок спелого, искрящегося на солнце арбуза, по-украински кавуна. Такое меню было не только у биндюжников, но и у многих других одесситов, по крайней мере, в семье моего папы и его школьных друзей.
19. Одесситы на Крестовском острове Ленинграда
Тётя Вера прожила в Ленинграде 36, а в Одессе не больше 15 лет своей жизни, поэтому, как мне кажется, она и любила его больше, чем Одессу. Про жизнь в доме на Екатерининской улице рассказывала и вспоминала часто, но о самой Одессе говорила редко и скупо. Я думаю, что Одесса так и не стала её городом. К тем чертам и особенностям Одессы, которые знают, ценят и до конца понимают только коренные одесситы, она относилась равнодушно, иногда иронично. Её раздражал одесский стиль общения, излишняя открытость, громкий разговор, безаппеляционность в суждениях и навязчивость в общении, хотя в их оценке можно легко ошибиться, не разобравшись в особенностях характера человека, который просто в такой форме выражает к тебе внимание, уважение и абсолютную искренность в своих самых лучших чувствах.
По своей природе ей был ближе, так называемый, ленинградский стиль, т.е. те человеческие качества, которые приписывают обычно коренным ленинградцам, в первую очередь, спокойствие, сдержанность и подчеркнутую вежливость в общении с незнакомыми людьми. Поэтому она так легко и быстро «вписалась» в ленинградскую жизнь, полюбила Ленинград и особенно тот удивительный его район, который носил и носит неформальное название Крестовский остров, где прожила эти 36 лет, если не считать трёх лет эвакуации.
Крестовский остров расположен в западной части города, ограничен с севера Средней, а с юга Малой Невкой, имеет вытянутую форму, восточная часть которого граничит с Каменным островом, отделяясь от него рекой Крестовкой, а западная оконечность выходит прямо в акваторию Финского залив. С его северной части он граничит с Елагиным островом, который имел отдельный статус и на нем был построен великолепный Елагинский дворец.
Весь этот удивительный район издревле носил название Острова. До революции эти территории не входили в состав Санкт-Петербурга, но они, по своему месторасположению, наличию больших зеленых массивов, выходу к заливу и одновременно близостью к центру города, быстро стали притягательным местом для строительства городской знатью и его состоятельными жителями дворцов, коттеджей и дач, а также спортивных сооружений. Если жилые, как правило шикарные и дорогие здания, строили, в основном, на Каменном острове, то яхт-клубы, гребные эллинги и теннисные корты строили на Крестовском острове в его западной части и вдоль Средней и Малой Невки. На его восточной стороне был большой участок земли, который, еще с конца 19 века, облюбовала себе петербургская молодежь для занятий легкой атлетикой и футболом, который все больше завоевывал популярность в Европе и в России. Если членами яхт-клубов и теннисных кортов были, как правило, петербургские аристократы, интеллигенция и молодые образованные люди, то футбол был более демократичным спортом, и в него играли люди попроще.

Крестовский остров |
После революции коттеджи и дачи Каменного острова были национализированы. Постройки поскромнее были отданы под дома отдыха и детские сады, а более солидные передали под государственные резиденции и зарубежные представительства. Спортивные клубы сняли сословные ограничения, в них пришла рабочая молодежь, студенты, военнослужащие, хотя по-прежнему в теннис преимущественно играли более образованная публика. Уже в 1929 году на Крестовском острове было построен стадиона Динамо. На нем стали проходить футбольные матчи первенства СССР по футболу, соревнования по теннису и легкой атлетике. Еще в довоенные годы с ним были связаны фамилии легендарных советских спортсменов: братьев Дементьевых, Бутусова, Набутова в футболе, Бойченко и Алехина в плавание, Негребецкого, Озерова, Налимовой в теннисе.
Улицу, ведущую к центральному входу на стадион, заасфальтировали, переименовали в проспект Динамо, по правой стороне которого очень быстро построили шесть двухэтажных корпусов, устроенных по типу современных таун-хаузов, т.е. каждая двухэтажная квартира имела отдельный вход и была оборудована мебелью, ванной комнатой и отдельной кухней. Жильцами этих по тем временам комфортабельных квартир стали различные ответственные советские и партийные работники, военачальники, ученые, разбавленные небольшим количеством простых людей. О статусе жильцов этих домов можно было судить по персональным автомобилям, которые утром подъезжали к этим корпусам за значимыми персонами, а вечером привозили их обратно домой. Но иногда автомобиль подъезжал к какому-нибудь корпусу поздним вечером, увозил кого-то из этих важных персон в ночь, и обратно они уже не возвращались. Их семьи затем быстро освобождали свои отдельные квартиры, а вместо них въезжали семьи новых важных чиновников.
Как и до революции, Крестовский и Каменный острова не имели ничего общего с нашим представлением о Ленинграде. Эти места не были зажаты коробками домов, промышленными зданиями и заборами города. Приезжая сюда, каждый ощущал чувство свободы, пространства, энергии и праздника.
С левой стороны проспекта Динамо напротив новых корпусов еще с дореволюционных времен стоял двухэтажный особняк с верандой и большим палисадником перед ним. На фото видна еще и мансардная настройка, но она сделана уже в наши дни. Особняк был построен в 1910 году по заказу коллежского асессора Ю.Д. Лужецкого и священника Н.С. Рудинского. Как и чем они были связаны неизвестно, но, очевидно, что один этаж полностью принадлежал одному, а другой — второму заказчику. Каждый этаж содержал по одной большой 4-х комнатной квартире с зеркальными окнами, выходящими в сад. После революции владельцам особняка, если они остались в живых, пришлось искать другую жилплощадь, а первый и второй этажи были превращены в коммунальные квартиры.
Вот одну из комнат, два окна которой видны около веранды на первом этаже Або Петрович, отец Бориса, сумел каким-то образом обменять в 1932 году на комнату в одесской квартире, где они жили вместе с родителями моей мамы. Как это ему удалось, остается большой тайной. Уверен, чтобы получить разрешение на обмен и прописку в Ленинграде, в престижном зеленом районе, да еще в особняке, хоть и в коммунальной квартире, но в большой комнате, надо было как минимум иметь за плечами определенный статус, связи, знакомства в городской жилищной сфере и, главное, иметь деньги. Учитывая, что по словам Бориса, его отец принимал участие в гражданской войне, служил на границе, работал на таможне и был даже членом особого отдела, именно эти факты его биографии могли помочь ему открывать нужные кабинеты.

Дом на Крестовском острове,
|
Надо сказать, что доказательств такой лихой деятельности в его молодые годы немного. Единственно, что заставляет в это поверить, это его неподдельная обида и даже почти полный разрыв отношений с братом моей мамы Лёвой, который потерял документы, подтверждающие эти факты, без которых Дядька не смог оформить в начале 50-х годов персональную пенсию, на которую, как он считал, имел полное право. Еще один факт, это воспоминания моей мамы, утверждавшей, что помнит, как в середине 20-х годов Дядька приходил домой в кожаной куртке с наганом в портупее на ремне. Ну, а деньги, которые должны были мотивировать обладателей питерской комнаты в особняке поменять её на небольшую комнату в Одессе, а также помочь в оформлении документов на обмен, и, главное, при прописке у Дядьки, очевидно, были, по профессии он был скорняком.
20. Война
С раннего возраста, думаю, что уже лет с пяти, а, возможно, и раньше, в моей голове прочно поселились такие слова как немцы, фашисты, война, блокада, голод, эвакуация, оккупация, гетто, смерть.
22 июня 1941 г. в 4 ч. утра без объявления войны, после артиллерийской и авиационной подготовки главные силы Вермахта и войска германских союзников (около 190 дивизий) внезапно начали мощное наступление по всей западной границе СССР от Чёрного до Балтийского морей.
Где же в этот день находились мои родственники, обитатели квартиры №41 по Екатерининской улице дом 2?
Родители мамы, её тетя, а также племянница Маргариточка, которая приехала в Одессу в начале мая 1941 года из Ленинграда на каникулы, продолжали жить в квартире по этому адресу. Квартира к этому времени стала коммунальной, а средняя сестра маминой мамы, Вера Борисовна с мужем Або Петровичем, сыном Борисом и дочкой Маргаритой, как я уже писал раньше, переехала в Ленинград еще 1932 году. Моя мама в 1939 году перевелась на 3-й курс Ленинградского финансово-экономического института, а её брат Лёва, вернувшись после ранения с советско-финской войны в 1940 году, тоже уехал жить и работать в Ленинград. Надо добавить, что за 6 дней до начала войны моя мама успела выйти замуж за моего будущего папу, который в то время работал в Таллинне и приехал к ней на выходные дни 16 июня, став таким образом, тоже родственником моей мамы, а немного позже и моим.
Сейчас, оглядываясь на события 80-летней давности, когда никого из действующих лиц этого повествования уже нет на этом свете, а при их жизни у меня не хватило ума расспросить их о том времени, трудно и невозможно проанализировать их настроение, понимание обстановки в стране и мире, их действия или скорее бездействие в той ситуации. Многое в их поступках вызывает недоумение и даже оторопь. Как можно было отправить в Одессу в это тревожное время 11-ти летнюю девочку? Зачем надо было жениться на студентке-дипломнице, у которой в кармане лежало уже распределение в Петрозаводск, а самому новобрачному надо было возвращаться в Таллинн, в то время закрытый город, куда свободный въезд не был разрешен. Почему у них было такое благодушие? Неужели их не охватывало тревожное ощущение надвигающейся опасности? Невозможно поверить, что они не читали газет и не слушали радио. Более того, находясь с сентября 1940 года в Таллинне, мой будущий папа и его веселые одесские друзья, которые тоже работали в таллиннском порту в это время, слышали неоднократные предупреждения от эстонцев о том, что Германия готовится к войне, что война неизбежна, но они к этим разговорам или, как они потом говорили, «слухам» относились с недоверием, точнее отмахивались от них. О плохом думать не хотелось.
Чтобы понять мою иронию и недоумение, вызванное их поведением, надо вернуться в конец 30–х годов и, хотя бы пунктирно коснуться политических событий, которые происходили в Европе и в СССР накануне войны, свидетелями и современниками которых они были.
В 1933 году, в результате свободных выборов в Рейхстаг, к власти во главе Национал-социалистической немецкой рабочей партии (в русском сокращении НСДПГ), приходит Адольф Гитлер. Веймарская республика ликвидирована, и все её демократические институты разрушены. Национал-социализм объявляет своей целью создание и утверждение на карте мира расово чистого «арийского государства, которое должно иметь всё необходимое для благополучного существования тысячелетнего рейха».
«Даровать немецкому народу почву и территорию, на которую они имеют право претендовать. Это, пожалуй, единственная цель, которая оправдывала бы пролитие крови перед Богом и будущими поколениями. Говоря о новых территориях, мы должны в первую очередь думать о России и тех окраинных государствах, которые ей подчинены». Это одна цитата из многочисленных «научных» трудов нацистских идеологов, обосновывавших «законность», планируемой Гитлером агрессии. Начался 12-тилетний период существования нацистской Германии. Очень быстро всем западным странам и СССР, в том числе, стало понятно, что они попали в сферу нескрываемых агрессивных геополитических интересов Гитлера.
Чтобы понять предпринимаемые политические шаги и заявления лидеров западных стран и Англии, надо не забывать, что в это время наряду с их антинацистскими взглядами никуда не исчезли и были достаточно сильны и их антикоммунистические, антисоветские позиции. Несмотря на то, что ведущие западные промышленники активно принимали участие в создании советской индустрии, поставляя необходимое для строительства заводов оборудование и технологии, правительства этих стран и политические круги категорически не воспринимали коммунистическую идеологию и не скрывали любой возможности ослабить СССР. Для справедливости надо сказать, что аналогичную, практически зеркальную политику по отношению к Западу, занимало и советское государство во главе с И. Сталиным.
Вот в этой обстановке «непримиримых противоречий» между нацизмом, коммунизмом и капитализмом в середине 30-х годов в Европе начались закулисные, а порой и явные политические игры, главной целью которых было желание использовать нацистскую военную машину Германии для ослабления или даже полного уничтожения политического конкурента. Полагая, что Гитлер со временем ввяжется в затяжную войну с со странами Запада и Англией, Сталин активно поставлял в конце 30-х годов в Германию никель, молибден, хром и другие, стратегически важные для военной промышленности, материалы. Начались контакты и взаимные переговоры между Германией, СССР, Англией, Польшей и другими европейскими странами. Процесс это был длительный, сложный и путанный, освещался предвзято, у каждой стороны был свои потаенные цели и взгляды в обсуждаемых вопросах.
Противоречивые оценки тех событий изложены и в советских исторических работах, особенно тех, которые прозвучали в постсоветский период, когда стали доступны многие секретные документы. Тем не менее СССР включился в обсуждение вопросов обеспечения безопасности в Европе, для чего в начале 1939 года были начаты переговоры с Англией, однако быстро стало известно, что одновременно с переговорами в Москве британское правительство поддерживало тайные контакты с гитлеровской Германией.
Вот как трактуются те события в Википедии: «Разгадав двойную политическую и дипломатическую игру своих партнёров по переговорам, советское правительство приняло предложение Германии об улучшении политических отношений между государствами на основе взаимного признания интересов в Восточной Европе. При этом сама Германия заявила о своей заинтересованности в контроле над западной частью Польши и Литвой и о готовности учесть заинтересованность СССР в восточной части Польши, а также в территориях Латвии, Эстонии, Финляндии и румынской Бессарабии». Такая циничная договорённость, однако, подразумевала отказ СССР от договора с Великобританией и Францией.
В августе 1939 года Гитлер дал согласие «учесть всё, чего пожелает СССР», после чего Сталин при одобрении Политбюро принял решение о заключении германо-советского договора о ненападении. Для заключения договора в Москву прибыл министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп. В ночь на 24 августа в Кремле был подписан Пакт о ненападении между Германией и Советским Союзом. В секретном дополнительном протоколе этого документа было закреплено разделение сфер интересов Германии и СССР «в случае территориально-политического переустройства» Прибалтики и Польши. С конца сентября 1939 года после подписания договора о дружбе и границе с Германией любая критика национал-социализма в СССР была прекращена, целью советской пропаганды стали Англия и Франция. На этом фоне в результате политического давления СССР заключил договоры о сотрудничестве с Эстонией, Латвией и Литвой и начал размещение в Прибалтике своих военных баз, при том, что эти государства оставались еще формально (де-юре) независимыми.
Аналогичный договор, но с возможностью аренды или даже покупки полуострова Ханко, где Сталин намеревался расположить военную базу, в октябре этого же года СССР ультимативно предложил Финляндии. Финская делегация во главе с Премьер-министром Паасикиви трижды приезжала в Москву и трижды, ссылаясь на статус Финляндии как нейтральной страны, предложение отклоняла. В результате, после провокации, устроенной советскими войсками 26 ноября 1939 года около деревни Манийла, когда был инсценирован обстрел одной из воинских частей Красной армии, советское правительство направило в Финляндию ноту протеста, разорвало с ней дипломатические отношения и через несколько дней советские войска перешли советско-финскую границу с целью «освобождения финского народа от белофиннов».
Началась советско-финская война, которая закончилась через 3,5 месяца подписанием мирного договора, по которому часть северных территорий, включая весь Карельский перешеек, отошла к СССР. В результате войны, ценой больших жертв со стороны СССР, потерявших в общей сложности около 50 тыс. человек, включая убитых, раненных, обмороженных и пленных, против 28 тыс. потерь с финской стороны, была достигнута главная стратегическая цель, которую преследовало советское руководство — отодвинуть северо-западную границу от Ленинграда.
Однако, поставленная политическая цель — создание в Финляндии просоветского режима — не была достигнута, а враждебное отношение к СССР в ней усилилось многократно. Более того, по инициативе Финляндии вопреки условиям действующего на тот момент мирного договора между Германией и СССР, Гитлер ввел свои войска в северную Финляндию, создав дополнительную угрозу СССР, нивелировав таким образом итоги войны, позволившие отодвинуть границу на 90 км от Ленинграда. Война привела к резкому ухудшению отношения к СССР со стороны США, Великобритании и Франции (14 декабря за агрессию против Финляндии СССР был исключён из Лиги Наций). Ход боевых действий, который показал явную неготовность СССР к войне, придал уверенности Адольфу Гитлеру в его расчётах на быстрый разгром Советского Союза.
Несмотря на эти итоги, используя секретные условия мирного договора с Германией, 14-16 июня 1940 года советское правительство предъявило ультиматум Литве, Латвии и Эстонии с требованием провести свободные выборы и допустить на свою территорию дополнительные контингенты советских войск. Заступиться за эти государства в Европе никто не мог. Польша и Франция были уже оккупированы Германией (Сталин даже направил Гитлеру поздравительную телеграмму по случаю взятия германскими войсками Парижа), а Англия к этому времени сама вела войну с Гитлером. Поэтому условия, вернее требования, были приняты и в середине июня 1940 года советские войска вошли в Литву, а затем в Эстонию и Латвию.
На выборах в парламент во всех трех государствах победили прокоммунистические блоки, единственные, кто был включен в избирательные списки. Вновь избранные парламенты уже в июле провозгласили создание Эстонской, Литовской и Латвийской СССР и приняли Декларации о вхождении в СССР. Нужно добавить, что в результате похожих политических манипуляций и ультимативных требований король Румынии Кароль II был вынужден дать согласие на передачу территории Бессарабии. На карте СССР возникла еще и Молдавская ССР. В западных областях Украины, Белоруссии и в Бессарабии, вошедшие в состав СССР, начались массовые репрессии, направленные против местной буржуазии и части местного населения, не принявшей советской идеологии и порядков.
Все это проходило на глазах моих родственников в Одессе, Ленинграде и Таллинне, но, судя по всему, не вызывало у них особого беспокойства. Сейчас, оглядываясь назад, это, конечно, порождает недоумение и досаду. Они же не могли не знать, что осенью 1939 года Гитлер уже оккупировал Австрию, Чехословакию, Польшу, а в 1940 году почти без боев захватил Францию, Голландию и Данию, продолжал варварски бомбить Лондон! Возможно, их успокаивало, что между СССР и Германией продолжал действовать Пакт о ненападении и мирный договор, заключенный в 1940 году. Кроме того, не прекращались торговые отношения, и из одесского порта один за другим отходили корабли с пшеницей, нефтью, металлом.
Более того, в Липецком летном училище немецкие летчики совершенствовали свое воздушное боевое искусство под началом советских инструкторов. В газете «Правда» время от времени появлялись опровержения ТАСС относительно «провокационных» заявлений западных газет о якобы готовящемся нападении Германии на СССР. Возможно успокаивало, что война с Финляндией завершилась победой и подписанием также мирного договора, а у ленинградцев появилась возможность выезжать отдыхать в выходные дни и в отпуск на финское побережье и озера Карелии. Финские Терийоки, Куоккала и Келломяки превратились, соответственно, в курортные городки Зеленогорск, Репино, Комарово.
В самом деле, советским гражданам, изолированным от реальной политической обстановки в Европе и ближайших планов Гитлера, получавших информацию только из газеты «Правда» и радиопередач из Москвы, особых причин беспокоиться вроде бы не было. Поэтому 29 апреля 41 года Маргариточка после окончания второго класса отправляется на летние каникулы в Одессу к тете Соке, моей бабушке, которая заправляет домашним хозяйством, к дедушке, который обеспечивает одесских модниц пуговицами и пряжками ручной работы, и ко второй тёте, незамужней Манюшке, ударнице одесской багетной фабрики, постоянно перевыполняющей план по производству багета.
Моя будущая мама готовится к государственным экзаменам и, наверное, строит планы о замужестве, т.к. её Изя живет и работает в Таллинне и уже несколько раз приезжал в Ленинград с эстонскими подарками: модными лаковыми туфельками-лодочками, фирменными эстонскими кошельками и сумочками из тисненой кожи. Романтические отношения с ним у неё установились незадолго до окончания им института в Одессе, во время встречи Нового 1939 года. Насколько эти отношения были сильны, у кого в гостях и каким образом они познакомились, я точно не знаю и по своей глупости никогда не интересовался. Как и всем детям, даже когда они становятся взрослыми, кажется, что их мамы и папы были всегда вместе.
Каким образом мой будущий папа оказался в Эстонии? После вхождения прибалтийских стран в состав СССР въезд туда разрешался по специальным пропускам, которые выдавались только работникам новой, уже советской администрации, сотрудникам партийных органов, военнослужащим, а также специалистам, которые были необходимы для функционирования промышленных предприятий, в частности таллиннского морского порта (Балттехфлота), которому придавалось важное стратегическое значение.
Сталин, его окружение и военное руководство в первую очередь, конечно, знали реальное положение вещей и не заблуждались в планах Гитлера, поэтому начиная с осени 1940 года, в таллиннском порту были развернуты большие работы по его реконструкции и ремонту судов, стоящих в нем. Не знаю каким образом, но папин близкий друг и однокурсник по Одесскому институту инженеров морского транспорта, который они оба окончили в 1939 году, Жора Рашкович, узнав о наборе морских инженеров для работы в порту, сумел получить вызов в Таллинн и занял какую-то руководящую техническую должность в таллиннском порту. Дядя Жора, как я называл его всю жизнь и которого помню с самого детства, наверное, лет с 4-х, был очень контактным, веселым и энергичным человеком, а также красивым и обаятельным мужчиной, который легко устанавливал дружеские отношения с окружающими людьми и, в первую очередь, с представительницами слабого пола. Мой папа, хотя его внешние данные, как мне кажется, совершенно не уступали Жориным, был, как я потом смог убедиться, застенчивым, мягким и не очень решительным человеком и сам, конечно, не смог бы пробиться в Эстонию. Жора, обустроившись в Таллинн, быстро организовал вызов моему будущему папе, который после окончания института работал в это время в Мариуполе, тоже в порту.
Он стал в Таллинне начальником плавучих мастерских, фактически небольшого ремонтного завода, размещенного на корабле, что полностью соответствовало его специальности морского инженера. Скоро в Таллинн перебрались еще несколько папиных одесских товарищей, тоже однокурсников по институту. Работа была интересная, платили очень хорошо, маленькая квартирка, которую они вместе снимали, находилась прямо в центре старого города среди уютных кафе и ресторанов, и одесситы весело проводили время. Их жизнь в Эстонии, которая после «добровольного» вхождения в СССР осенью 40-го года еще не растеряла буржуазной привлекательности, была удобна и комфортна. В ресторане «Глория», который был в двух шагах от их дома, хорошо кормили, там под звуки томного танго можно было потанцевать с местными девушками, занимавшими места у стойки бара, так называемыми «бардамами», а каждую субботу там велась прямая трансляция джаза из Германии и других европейских стран. Заработной платы хватало на хорошую одежду и модную обувь. Добротные «выходные» туфли из темно-вишневой кожи, с простроченным рантом, купленные папой в то время, я еще донашивал, учась в институте в 60-е годы.
Напомню, что время от времени папа, отпрашиваясь со службы, наведывался в Ленинград на свидания с мамой, которая жила в общежитии, скрашивая ее скромную и рутинную студенческую жизнь. Как-то в середине июня он в очередной раз обратился к Жоре, своему непосредственному начальнику и другу одновременно, с просьбой отпустить его в Ленинград и тот, как он мне рассказывал много позже, в ответ пошутил, что ладно езжай, но при одном условии — женись на Ноне, что папа и сделал 16 июня 41 года. Он, конечно, не мог знать, что через 6 дней начнется война, но ощущать её неминуемое приближение он мог. А может быть именно поэтому, предполагая, что следующего свидания может и не быть, он принял это решение. Спасибо ему за этот решительный шаг.
Вот такая диспозиция сложилась на 22 июня 1941 года: ничего не ведающие и не подозревающие мамины родители, тетя Манюшка и Маргарита в Одессе, другая тетя Вера с сыном подростком и моя будущая мама-студентка в Ленинграде, а её молодой муж в Таллинне. И только для её родного брата Левы, тоже переехавшего в Ленинград после участия в финской кампании, война не стала неожиданностью. Очевидно, что он лучше всех понимал ситуацию, т.к. после очередного опровержения ТАСС весной 1941, исключавшего возможность войны, твердо заявил окружающим о скором начале войны и собрал вещмешок, который сохранился у него еще с финской войны, пройдя которую он, очевидно, набрался не только военного опыта, но и научился читать советские газеты между строк, отличать официальную информацию от реальной, грамотно анализировать происходящие в мире события и делать правильные выводы.
Конечно, было бы неверно утверждать, что абсолютно все население СССР в 1941 году находилось в состоянии умиротворенности и безмятежности. Недавно закончившаяся война с Финляндией, оккупация Германией почти всей Европы, усиление Гитлера союзами с Японией, Италией, Румынией, развернувшаяся внутри страны кампания шпиономании, разоблачение и репрессии в отношении ближайшего к Сталину политического и военного окружения, конечно, формировали в советском народе, по крайне мере в его мыслящей части, ощущение тревоги и беспокойства, в воздухе висело «предчувствие мировой войны», точно выраженное в картине Сальвадора Дали. (Только названное им — «В предчувствии гражданской войны»). Конкретная опасность притуплялась наличием Пакта о ненападении и мирного договора с Германией (никто её в 1941 году в прессе не называл фашистской) и советской пропагандистской машиной, создававшей в сознании советских людей, особенно молодежи, уверенность в устойчивом положении СССР на международной арене, в непобедимости Красной армии, а в случае начала войны в быстрой победе. Очень точно это было выражено в песне, написанной на слова Лебедева-Кумача, которая постоянно звучала в то время из репродукторов:
Если завтра война, если враг нападет,
Если темная сила нагрянет-
Как один человек, весь советский народ
За свободную Родину встанет.
Мы войны не хотим,
Оборону крепим мы недаром,
И на вражьей земле мы врага разгромим
Малой кровью, могучим ударом!
Никто, за исключением очень узкого круга военного и политического руководства, не знал, что, начиная с весны 1941 года, Сталина постоянно информировали, что Гитлер ведет активную подготовку войны и стягивает к границе с СССР войска и тяжелую технику. Он не верил донесениям наших разведчиков, указывавших даже точную дату начала войны, и буквально за день до её начала написал на очередном донесении матерную резолюцию в адрес её автора. Люди ходили на работу, кто-то ушел в летний отпуск, студенты и школьники готовились к экзаменам. Лето, июнь, светит солнце, тепло, все цветет и благоухает.
О том, как советские люди восприняли известие о начале войны с Германией написаны сотни книг, сняты десятки фильмов, о том, как стояли люди у репродукторов на улице, в цехах заводах, в деревнях, молчаливые и ошеломленные. К этому добавить что-нибудь сложно, за исключением, может быть, только личных впечатлений, причем не рассказанных через много лет, хотя и они очень ценны, а записанных буквально в этот же день 22 июня 1941 и потом в последующие военные годы, в личных дневниках — искренне, достоверно и честно. Тысячи людей, совершенно разных по своему положению, школьники и пожилые, известные и абсолютно рядовые вели свои дневники, кто всю жизнь, а кто только в период войны, абсолютно не предполагая, что они станут достоянием общественности и, как машина времени, позволят услышать нам их взволнованные и живые голоса. Пожалуй, это были единственные в то время описания, происходящих вокруг событий, не подверженных ни цензуре, ни самоцензуре. Помните, у Булата Окуджавы?
Каждый пишет, как он слышит,
Каждый слышит, как он дышит,
Как он дышит, так и пишет,
Не стараясь угодить…
Многие из дневников опубликованы в Интернете, а часть издана в виде книг. Читать их трудно, но очень полезно и важно, т.к. они позволяют узнать правду и почувствовать нерв того времени. О начале войны и их жизни в то время, написали моя мама и Борис, написали уже много позже, но как встретили войну и как жили мои одесские родственники — почти ничего не известно, поэтому я помещаю ниже воспоминания других людей, в основном одесситов, которые помогут представить нам те несколько летних и осенних месяцев из их жизни.
21. Дневники. Одесса с 22 июня по 16 октября 1941 года
Дневниковых записей, сделанных совершенно разными людьми в это период и размещенных в настоящее время в свободном доступе в Интернете, очень много. При внимательном и терпеливом их прочтении, можно достаточно точно и полно восстановить жизнь в Одессе во время её обороны, но это не является целью этих записок, я хочу только кратко обозначить обстановку тех тревожных дней через восприятие авторов дневников.
Среди авторов записок будет встречаться Владимир Афанасьевич Швец, 25-ти лет, студент одесской консерватории, пианист, композитор, преподаватель школы Столярского. Хочу предварить его записи короткой цитатой из его дневника, говорящей, что были среди одесситов и те, которые буквально «кожей» чувствовали приближение ужасов войны. Он записал 21 марта разговор с матерью его товарища, уже пожилой женщиной:
«… Мы раньше богато жили. Я считалась аристократкой! Был дом в 9 комнат. Зал, что на одном конце станешь, так в другом человека не узнаешь. Балы, гости. Был собственный выезд.
— Теперь такая мука, срам. Жорж от бедности погибает, а другие тысячи получают. Живет он в грязи, в голоде. Раньше, когда здорова я была, то каждую соринку вымету, сама обои свеженькие наложу, сама клей для этого запарю. Теперь смерть моя у порога. Мне 70 лет». Она говорила быстро, не смолкая, обдавая мое лицо отрыжкой лука и чеснока. Она торопилась, будто боялась, что кто-то прервет ее откровения.
Я напомнил ей о Боге, который должен был приготовить ей вознаграждение за страдания. Лицо ее при упоминании Бога приняло вид древней иконы.
— Я с детства любила Евангелие читать. Но читала лишь страсти, а чудеса обходила. Не верю я им. Бог есть на Земле, но Христос? Почему он такой всемогущий и всевидящий не является к нам? Почему я не могу поговорить с ним? В Библии много непонятного, но есть вещи уже сбывшиеся, хотя о них писали тысячу лет тому назад.
У нас в этой комнате книгами было все заставлено до потолка. Когда умер муж, пришли к нам покупатели и удивились такому количеству книг. Иногда я читаю и теперь. Люблю Уэллса.
Все, о чем писалось в книгах, сбывается. Весь мир обтянут проволокой. Танки топчут людей и уничтожают все на своем пути. Война уже создала тысячи калек. Евреев, которых выслали из Румынии, свои же так встретили… Уже брат пошел на брата, отец на отца. Солнце поблекло в последнее время, стали частыми землетрясения. Мне все грезится, что я бегу, бегу вместе с толпой, чтобы спастись от гибели. Христос придет, когда погаснет Солнце, он осветит путь людям на Сион. И евреи будут прощены. А что предстоит нам?»
Наступило 22 июня.
Нина Дятлова, студентка, 22 года.
«Несмотря на воскресенье, читальные залы переполнены — завтра у нас экзамены… И тут слышим страшное слово: «война». Прибежала взволнованная Лариса Бойко, позвала:
— Идите быстрее в комнату! Передают важное правительственное сообщение!
По коридорам спешно разбегаются студенты. Слышатся возгласы:
— Молотов выступает! Война!
Затаив дыхание, стоим мы возле черной тарелки репродуктора в комнате студенческого общежития и слушаем страшную весть. Говорит Молотов:
— Сегодня утром немецкие войска перешли нашу границу… Фашистские самолеты без объявления войны бомбили города Киев, Минск, Брест, Одессу… Весь советский народ встанет на защиту своей Родины. Фашизм будет разбит и уничтожен. Победа будет за нами!
Нет слов, чтобы передать охватившее всех чувство волнения. Словно невидимый ураган пронесся, сорвал и унес все дорогое, светлое и радостное. Этим светлым и дорогим, что мы сейчас потеряли, была мирная жизнь народа, страны, всех нас. Чутьем угадываем, что надвигается страшное, жестокое, беспощадное, и оно будет молоть наши судьбы и жизни…».
Михаил Эдельман, 20 лет, лейтенант.
«И вдруг, словно электрическая искра пробежала по гарнизону: «Германия вступила с нами в войну. Немецкие самолеты бомбили Киев, Минск, Смоленск, Одессу и другие города». Кто первый сообщил эту версию неизвестно. Но все как-то встрепенулись, стали строже. И почему-то эти слова не вызывают никакого сомнения, и от этого делается как-то жутко и по спине пробегает легкий холодок. Война! … Страшное слово! Звери-фашисты посягнули на нашу страну. Они хотят обратить в рабство мой народ, как обратил в рабство народы Польши, Франции, Греции, Югославии. Не выйдет! «С песней родной мы по земле чужой бурей хлынем по вражьему следу!» Война будет жестокой, это ясно, но ведь весь наш народ встанет на защиту своей свободы. Мы разобьем врага и освободим мир от ига черных фашистских угнетателей!»
Андрей Авдеев, офицер, 30 лет.
«Все хорошо отдохнули. Утром приняли туалет, позавтракали и принялись каждый за свое дело. День солнечный, настроение радостное; я впервые участвую на закрытом партсобрании нашей партийно-кандидатской группы. Наш парторг — комбат, товарищ Макаренко, против обычного, несколько взволнован, хотя волнение может заметить только тот, кто его близко знает. Но на этот раз было чем взволноваться даже самому спокойному.
Он сообщил нам о том, что сегодня утром на нашу Родину вероломно напал самый злейший враг передового человечества, обнаглевший германский фашизм, что его хищные бомбовозы уже сбросили свои смертоносные грузы на наши родные города: Киев, Житомир, Каменец-Подольск, Одессу, Севастополь и другие.
Возмущению и гневу нашему не было границ. Объяснив стоящие перед нами задачи, наметив план действий, парторг закрыл собрание, после чего был проведен митинг. Я выступил на митинге с пламенной речью.
Через полтора-два часа на большом старом шляхе, обсаженным чудесными раскидистыми деревьями, начал выстраиваться полк. Все одели стальные шлемы, ранее находившиеся или привязанные к ремням вещмешков, или у седел, или где-то на бричках.
В общем, настроение было приподнятое. Марш был ускоренный, это утомляло и людей, и лошадей. Одно спасение в том, что погода стояла умеренная. А в общем, это чудная погода чудесной страны! Но не мне описать все красоты — оставляю это на послевоенное время, а может быть, более способному человеку».
Иван Фротер, 25 лет, офицер.
«Начиная примерно с 3-х часов ночи слышу на аэродроме непрерывный шум моторов, но самолёты не взлетают, вижу, самолёты рассредоточиваются. В 5.00 иду к лётчикам узнать что-нибудь у них, встречаюсь с командиром эскадрильи капитаном Кудишовым. Он столько же осведомлён, как и я, но вести говорит для меня новые: «Румыны с помощью немцев решили отобрать Бессарабию, перешли границу. Ну, будет им Бессарабия, мы им дадим!» … Посты непрерывно передают донесения о массовых полётах немецкой авиации над нашей территорией. Было также сообщено, что Севастополь, Одесса, Кишинёв и ряд других пунктов подвергались нападению с воздуха… Всё время в готовности №1, устал, чувствую, что надо бы дать немного отдохнуть, возможно, придётся уже сегодня отражать налёты на Николаев и, может быть, не один…
Так наступило утро 22 июня. Чудесная погода, очень тихо, на аэродроме давно уже заглушены моторы, наведена маскировка. Все закрыто сетями и свежей травой… Батарея стоит на опушке абрикосового сада. Деревья, хотя ещё молодые, но на них обилие в этом году абрикосов, они ещё не спелые. На деревьях на разные лады поют птицы, их многоголосный хор мы слушаем с большим удовольствием. Так закончилась эта тревожная ночь».
Павел Белов. 44 года, офицер, командир.
Воскресенье. Одесса. Война застала меня в отпуске. Я с семьей был в окружном санатории. С 11.00 мы были на пляже. Я купался и с детьми поехал на лодке. Только я вышел из лодки, как увидел жену, сходящую по лесенке. С ней мой шофер. Я подумал, что меня вызывают из отпуска. Оказалось, что передали радиовыступление товарища Молотова о вторжении немецких войск. Все офицеры стали одеваться, а я как старший среди них отдал устный приказ: «Всем быть готовым быстро вернуться к месту службы». Быстро иду к санаторию, по пути, в парке, услышал повторение по радио выступления товарища Молотова. Придя в санаторий, я вновь прослушал это выступление с начала до конца. Дело ясное. Началась война!»
Зинаида Сидельникова, 21 год, студентка.
«22 июня. Воскресенье.
Весть о войне застала меня в библиотеке института. Пришла сдавать книги, а персонал у репродуктора. Говорил Молотов. Сегодня в четыре часа утра немецкие войска ворвались на нашу территорию, бомбили Киев, Одессу, Севастополь, Житомир, Каунас… Началась война.
Сразу я не почувствовала большого волнения. Припомнила недавнюю войну с белофиннами — лишь с доносившейся в Ленинград канонадой, неудобствами светомаскировки да небольшим сокращением норм выдачи на руки продуктов в магазинах. Меня больше беспокоили две мысли: завтра с утра сдавать последний экзамен, да бомбежка приморских городов, где мои родные».
Павел Лукницкий, 40 лет, советский писатель и поэт, военный корреспондент.
Поэтический настрой не оставил его даже при записи о начале войны. Что в них больше: душевного порыва или профессиональной привычки все пускать в дело?
«Ночь на 23 июня. До сих пор мне было совершенно не важно, что окна квартиры обращены на запад, до сих пор не приходилось и думать о том, куда именно обращены окна.
Но нынче ночью завыли сирены, зачастили, надрывая душу, гудки паровозов и пароходов, отрезая эту ночь от всех прошлых ночей, когда нам спалось без тревожно. И хотя все звуки тревоги скоро замолкли и ночь была до краев налита тишиной, иная эпоха, в которую мы вступили, сказывалась уже и в том, что из своего окна смотришь не во двор, не на корпус противоположного дома, а сквозь него гораздо дальше — на Запад.
В строгой, через силу спокойной тишине слух старался уловить только легкое комариное звучание — где-то безмерно далеко. И воображение переносило меня от разрушенной Герники к изуродованным кварталам Ковентри и к тому, что случилось меньше суток назад в Минске, в Одессе, в Киеве… Я пытался представить себе: как это бывает? Вот так: сначала легкое комариное жужжание в тихом, спокойном воздухе, потом звук нарастает, близится, потом одуряющий гул — и сразу свист, грохот, дым, пламя, и для многих это — последнее, оборванное болью и тьмой впечатление. Сейчас в небесах — утренняя заря. Попробую точно записать впечатления этой ночи. Я облокотился на подоконник и думал: где сию минуту находятся, черные в белой ночи, немецкие бомбардировщики? Над вековечными, дремлющими в ночных испарениях лесами? Над полями, пахнущими свежим сеном, полынью, мятой? Над тихими, белесыми, отражающими светлые небеса водами Балтики? Сколько их, этих немецких бомбардировщиков? Тысяча или один? Где наши самолеты?
Летят по прямой к ним навстречу или уже пересекли им путь и уже кружат и бьются? И сколько наших на каждый вражеский? Наверное, не я один, наверное, тысячи советских людей в эти тревожные минуты думают о Кремле. Там, в Кремле, уже, конечно, всё знают, по слову оттуда с аэродромов поднимаются в воздух всё новые и новые самолеты…»
Филадельф Николаевич Паршинский, эсер, непримиримый противник советской власти, арестовывался в 1921, 26 -ом и 42-ом году, после чего пропал в ГУЛАГ’е .
Таких людей, с подобной позицией и отношением к Советской власти в СССР было достаточно. У одних оно сформировалось со времен Октябрьской революции и Гражданской войны, а у других было вызвано бессмысленными и необоснованными репрессиями 30-х годов.
В любом случае их душа не могла принять советский строй и его порядки, и в начавшейся войне они видели надежду избавления от советской власти. Надо сказать, что позиция и поступки определенной части этих люди, которые в годы оккупации стали сотрудничать с немцами, становились полицаями, карателями и даже воевали в армии Власова против СССР, не имела ничего общего с отношением, опять-таки, определенной части русской иммиграции первой волны к начавшейся войне. Многие из них, не принимавшие ни советскую власть, ни её идеологию, тем не менее с болью восприняли нападение Германии на СССР, который в их сознании оставался по- прежнему Россией, судьба которой им была не безразлична, поэтому эта часть русских эмигрантов приняла участие в партизанской борьбе с фашистами на стороне Франции, Италии, Югославии и других европейских стран. Но в тоже время, на стороне фашистов воевал и «Русский корпус», добровольческое соединение, сформированное с санкции германских оккупационных властей в годы Второй мировой войны на Балканах из русских эмигрантов, преимущественно бывших военных.
3 июля, Архангельск.
«Радио передавало в 6 ч. 30 мин. выступление Сталина. «У микрофона товарищ Сталин». Голос Сталина козлетонистый, говорит он нескладно, интонация унтер-офицерская, слышно было, как булькает вода, которую наливает себе в стакан Сталин. Репродуктор очень плохо работал, но все же я хорошо слышал слова: «Враг захватил Литву, большую часть Латвии, Западной Белоруссии, Западной Украины; бомбардируют Мурманск, Могилев, Смоленск, Оршу, Гомель, Одессу, Севастополь… Как это могло случиться, что фашисты имеют успех? Это случилось потому, что мы не были подготовлены к этому нападению. В тот день, когда враг был уже на нашей земле, мы только начали мобилизацию». Кончил словами: «Вперед, на врага!»
Врет Сталин! Красная Армия была очень хорошо подготовлена к этому «нападению». Даже больше: Сталин готовился к нападению на Германию, но выжидал, когда она истощится, чтобы легче вспыхнула коммунистическая революция в Германии. Гитлер был прав, что не стал дожидаться, когда Сталин начнет, и сам начал! Неуспех Красной Армии заключается в том, что она хуже оснащена и что 3/4 красноармейцев смотрят на Гитлера как на своего освободителя.
Между прочим, Сталин говорил: «Не было ли ошибки с нашей стороны в заключении договора о дружбе с Риббентропом? Нет! Это не ошибка…» Да, это не ошибка. Но зато ошибка заключается в трех камнях, которые Сталин положил за пазуху. Эти камни предназначались в голову Риббентропа, Гитлеру и Геббельсу. Это Латвия, Эстония и Литва».
11 июля. Владимир Швец.
«Утром перестрелка. Потом затишье. Такое солнечное утро! Ходил вниз, рвал букет маков. Но лепестки стали быстро осыпаться. После завтрака пекся на солнце, чтобы загореть.
После обеда собрался в город. Был у Золи. Она — с распущенными волосами. Марков обещал взять Золю с собой в случае отъезда. Но он считает, что если положение на фронтах не изменится, то ехать из Одессы нечего. Биберман тоже собралась уезжать. Мать Золи рассказала мне об увлечении ее Симоновым в кино, которому она писала письмо.
Потом был в Консерватории. Встретил Павленко.— «Что, сдал гармонию?» Говорили, что Ворошилов, Буденный и Тимошенко выезжали на фронт. Из Бессарабии в Одессу эвакуировали санатории. Говорят, что река Прут, так загружена трупами, что по ним переправляются. Говорят, мы отвоевали Хельсинки, а маршалы поклялись Сталину доставить ему Гитлера живьем. Из допра (дом предварительного заключения) выпустили множество арестованных. Мама на дежурстве, а я пишу».
15 июля.
«С утра ездил к отцу на завод. Пошли с ним домой. Сборы. Поцелуи и слезы. Из нашего военкомата угнали целые партии людей в порт. Их провожали. Впереди видел девушек и среди них — консерваторская певица. У соседей тоже слезы и истерики. Я не мог сам сидеть дома. Провожать не хотел. Ведь это так напоминает похороны. Сдал в городскую библиотеку часть Сережиных книг. Был в пустой Консерватории. Дома узнал, что наши отпущены домой. Столярский с дороги пишет телеграммы, что хочет обратно в Одессу. Говорили, что немцы бомбили Раздельную и там им сигнализировали. Начальник станции якобы «имел связь со шпионами». Сводки с фронта говорят о наших победах. Захвачено два города около Минска».
22 июля
«Вдруг появилось 6 чужих бомбардировщиков с длинными хвостами и тихим ходом. Все люди бросились по квартирам. Они летели прямо над нами и началась стрельба. Начался ужаснейший свист бомб, которые взрывались где-то совсем близко. Возможно, целились в наш дом, но ветер сносил бомбы в сторону. Вспыхнули пожары, запахло гарью. Возле самой террасы упала светящаяся ракета. К нам в квартиру вскочил чужой человек, сел на пол и начал стонать, схватившись за бок. Мама стала креститься. Стоял гул и треск. Отец стал курить. Наконец, все стало утихать. Когда мы вышли во двор, всюду был дым, черный, сливающийся с туманным небом. Внизу, над водой горела водная станция».
Адриан Оржеховский, 65 лет, поляк, красильщик одесской суконной фабрики, вел дневник с 41 по 44 годы.
«В ночь на 22-е июля, т.е. ровно месяц с начала войны с Германией, часов в 9 был первый крупный налёт и бомбёжка нашего города. Сначала было сброшено большое количество зажигательных снарядов, и сейчас же были сильные взрывы. Вся наша улица была, как бы иллюминирована горящими огнями на небольшом друг от друга расстоянии. Горело какое-то вещество сначала небольшим огнём, а потом разгоралось и принимало довольно большие размеры, и если такой снаряд падал на крышу, то пробивал железо и тут же начинался пожар. К счастью для нашего дома нам удалось немедленно потушить. На чердаке, в разных местах мы нашли три очага огня и тут же потушили, во дворе тоже 3-4 и также быстро засыпали песком. Но против нашего дома 4-х этажное здание, где очевидно упал такой снаряд на крышу, немедленно начало гореть. Через короткое время вся почти крыша уже была в пламени. Передать ту панику и душу раздирающую сцену, когда жители спасали своё имущество, те истерики и вопли, это мрачное пламя пожара, да и не одного дома, т.к. на следующем квартале и на Успенской уже видно было море огня, невозможно описать.
Наконец прибыла одна часть команды и, поработав несколько часов, залила начавшийся пожар. Мы ещё ничего не знали, что делалось в городе. Передавали только, что в центре валяются десятки трупов.
В это время, 5 ч. дня, когда я пишу эти строки, делают тревогу. Жена собирает кое-какие необходимые предметы: пальто, одеяло, бельё, чтобы в случае пожара не остаться буквально без ничего, но, заслышав тревогу, всё бросает и бежит во двор. Сердце стучит молотком в груди, руки трясутся, а голос изменяет свой звук.
Итак, на следующий день 23-го утром я отправился в город на фабрику. Здесь, на Пушкинской и в центре, я увидел нечто ужасное, непередаваемое. Останавливаться над каждым разрушенным домом и описывать его разрушения не стоит, т. к. все они разрушены до основания. На целые кварталы выбиты стёкла, вырваны оконные рамы, согнуты шторы у магазинов и всё превращено в груды мусора и пепла. На углу Ришельевской и Греческой снаряд зарылся на 7 метров в глубину и не взорвался. Но когда я увидел несколько воронок размером, пожалуй, в 10 метров в диаметре и глубиной чуть ли не в два роста человека, тут я сразу похоронил свои иллюзии относительно нашего домового убежища. Это готовая могила. Признаюсь, я упал духом. Этот диаметр и глубина воронки мне не даёт покоя и точно гвоздём засел у меня в памяти».
Оржеховский не ошибся, в самом деле, в первый месяц войны немцы бомбили Одессу эпизодически, основной целью был порт и суда, стоящие в нем, но с конца июля бомбежки стали регулярные, по несколько раз в сутки. Об этом периоде и действиях руководителей обороной страны, можно прочитать в публикации Я. Петерле «Одесса — Столица Транснистрии», помещенной в книгу Олега Будницкого «Одесса в 1941-44 годах. История коллаборационизма». Автор являлся свидетелем всех событий, начиная с момента начала войны, обороны Одессы, её оккупации и освобождения в апреле 1944 год и писал о своих личных впечатлениях. Это не дневниковые записи, а, фактически, журналистская публикация, подготовленная уже после войны т.к. по всем фактам, приводимым в ней, автор даёт ссылки на документы и источники. Поэтому, несмотря на то, что автор местами трактует события и поведение одесситов тенденциозно, не скрывая своего негативного отношения к советской власти, многие его впечатления заслуживают внимания и доверия, тем более, что они изложены простым и доходчивым языком.
«В течение первого месяца войны Одесса почти не была тронута с воздуха, фронт был еще сравнительно далеко, но советчики уже нервно и беспланово пробовали проводить эвакуацию. С конца июля начались частые налеты с бомбардировками, причем страдали не только порт, железнодорожные и фабрично-заводские районы, но и жилые кварталы. Немцы довольно быстро шли на восток, и в августе Одесса попала во вражеское кольцо, которое все туже сжималось, закрыв в сентябре пути эвакуации на суше. Оставалось еще море. Из порта отчаливали считанные пароходы на Мариуполь, Бердянск, позже на Новороссийск. Переполненные до отказа, они подвергались при выходе и по пути следования жестоким воздушным налетам, пикировке, пулеметному обстрелу, и ходили слухи, что два из каждых трех сильно страдали, а то и гибли. Количество человеческих жертв было громадно. Несмотря на крайнюю опасность, на трагедии тонущих кораблей, о чем ходили страшные повествования, каждый отходящий пароход осаждался толпами людей, и многие, не попав на него, оставались в порту по несколько дней. Смельчаки и люди помоложе нанимали подводы, грузили вещи, женщин и детей, а сами — пешком или на велосипедах, сопровождая телеги, шли в далекий путь, в надежде найти щели для прохода по суше».
(Вот так, пешком, ушла из Одессы Анна Яковлевна Червинская, мама моего отца (моя бабушка) вместе с мужем и взрослой дочерью).
Сашин Ян, 30 лет.
Об этих же событиях пишет в своём дневнике.
«18 августа.
Плотным кольцом окружили фашистские войска Одессу с трех сторон. Связь с миром осуществляется только морем. Уже месяц, как осажденная с трех сторон Одесса героически сражается с превосходящим по численности врагом. Лузановка — в руках фашистов. Их войска стоят у самой Одессы. Наши передовые позиции очень близко. Немцы стоят в четырех километрах от города на некоторых участках, на некоторых— до 18—20 километров. Сейчас они обстреливают город из орудий и минометов. Все время стоит канонада. Иногда снаряды рвутся совсем близко. Ночью фашистский снаряд разорвался у нас под окном. Город простреливается со всех сторон, и сейчас через каждые 6—8 секунд я слышу разрывы снарядов вражеской дальнобойной артиллерии. Воздушные тревоги объявляются по десятку раз в день, к ним многие привыкли
С вечера начинается большая тревога — бомбежка до утра. Многие жители Одессы эвакуировались, но треть населения осталась в городе. Оно ночует в катакомбах.
В городе очень трудно раздобыть воду. Воды мало. Она выдается по карточкам. Одесское водохранилище захвачено фашистами. Эта сволочь разбрасывает листовки такого примерно содержания: «Прекратите сопротивление, мы дадим вам воду», или: «Переходите на нашу сторону, и вы получите по 10 рублей и по стакану чаю с сахаром».
В городе возведены баррикады. Неузнаваем этот чудесный город. Одесса сейчас сражается так же, как и Ханко. Очень много схожего в судьбе этих маленьких, но сильных участков земли.
Одесса — это фронт. Фронт на любой улице. В любом доме.
Николаевск и Кривой Рог заняты немцами. В чём дело, как это получается? Непостижимо. Сдать такие города! Одесса осталась где-то позади. Он отрезает Крым. Не пойму. Когда же будет остановлена эта чума?»
Александр Афиногенов, 37 лет, советский драматург, автор многих известных пьес, в том числе «Машенька», которая выдержала после войны более 3000 постановок, погиб в Москве 29 октября 1941 года от случайного осколка.
«Вчера после упорных боев мы оставили города Николаев и Кривой Рог… Если первая волна немецкого наступления могла быть объяснена внезапностью (допустим), то эта, вторая, волна катится уже без всякой внезапности. И никаких оправданий не может быть, мы просто терпим жесточайшее поражение. Развеяна не легенда о «молниеносной войне», а сказка о нашем каком-то стратегическом плане, который будто бы предусматривает и т. п. Вздор! Мы взорвали николаевские верфи. А домны Криворожья! А Днепрогэс, где наш алюминий и никель? А Донбасс — куда открыта дорога… а мы катимся, катимся, и никакие отдельные героические бои не могут решить основного — мы отступаем… Юг отдан. Одесса падет не сегодня-завтра, недаром так быстро сообщили о Николаеве. Готовят известия похуже. Но даже это не самое страшное. Страшное — это тыл… Тыл расползается! В тылу же сейчас дикая неразбериха, анархия, при видимости порядка… Это через два месяца войны! Два месяца!! А ерунда такая, как будто воюем уже два года. И неужели нет человека, который сказал бы Сталину правду! Или все заняты собой?..»
20 августа. Адриан Оржеховский
«Итак, Одесса вся в баррикадах. Я только что ездил на фабрику и по дороге на всех улицах видел, как разбирали мостовые и из этих камней устраивали баррикады во всю ширину улицы, это всюду на всех подступах в город. Значит, решено Одессу не сдавать, а из этого выходит, что для жителей готовится кровавая баня. Как одна, так и другая сторона жителей жалеть не будут. Город представляет собой почти пустыню только у продуктовых точек бьёт жизнь ключом. С бешенством и остервенением, чуть ли не грызя, друг другу глотку рвут, что попадётся под руки. Сообщается, что Николаев сдан, верфи взорваны, сдан и Кривой Рог. Жара ужасная, вода отвратительно солёная, газовые заводы приостановлены, а если выпускают случайно пиво, то очереди колоссальные. Наша газета поместила заметку американского корреспондента, что Гитлер психически расстроен, да и вообще вся печать всякую ерунду и сплетню разносит, иной раз просто противно читать. Всё-таки нахожу, что пресса 14-го года, была куда в тоне деликатнее, теперь же в выражениях и в тоне не стесняются».
 |
Обратимся опять к Г. Петерле, вот, что пишет он:
«Во второй половине августа была объявлена всеобщая мобилизация мужчин от 16 до 55 лет. Толком не обмундированные, не знающие, как обращаться с оружием, мобилизованные молниеносно сколачивались в отряды и бросались в бой: надо было во что бы то ни стало задержать наступление врага, затянуть осаду города и нанести наибольший урон живой силе противника (теряя при этом громадное количество и своей). В качестве подкрепления были присланы крымские отряды моряков и морской пехоты. За ночь они героически разжимали вражеское кольцо километров на десять, а днем это кольцо снова сжималось.
Бомбардировки становились все жестче, и население перекочевывало на окраины — на Слободку, на Куяльник, на Средний и Большой Фонтаны. Надежных бомбоубежищ почти совсем не было, подвалы под домами были перенаселены, «Шалил» водопровод, и единственным «утешением» было то, что имевшиеся на складе запасы экспортных товаров и пищевых продуктов (из грандиозного портового холодильника) были пущены в продажу, и население в эти дни было чуть ли не впервые накормлено».
Нина Герасимова, Одесса.
«25 августа.
Передали, что в Москве был еврейский митинг. В газетах помещено воззвание к евреям. Но их этим не прошибешь, воевать они не пойдут. Пусть другие воюют, они любят только хорошо жить, а теперь прячутся за спины других».
Зоя Хабарова, школьница,14 лет, Одесса.
«1 сентября.
Сегодня наконец-то я пошла в школу. Нам дали еще одно здание, напротив нашего. Там была гостиница. В классе стало меньше ребят. Уехали Лейбович и Бейлис, Уланов хоть русский, но его отец работал в органах НКВД. Нет Риты и Тани. Нас осталось 17 человек, но еще некоторые хотят уехать, а нас почему-то не выпускают.
На уроке было тоскливо. Нас быстро распустили.
Я забыла написать, как тонул огромный теплоход. Я шла по Набережной, когда увидела над морем самолеты. По морю со стороны Одессы шел пароход. Самолеты один за другим пикировали на пароход и сыпали бомбы. Потом был взрыв, чернота, пароход разломился пополам, и тут же задрались нос и корма, и он ушел под воду. С берега стали спускать лодки, чтоб спасать людей. На одной лодке был сын наших знакомых по Севастополю. Папа их тоже уговорил уехать. Сашка не вернулся. Его мать страшно плачет и все надеется, что он вернется.
В городе очень много военных. В бывших санаториях – госпитали».
Еще в июле было принято решение об эвакуации из Одессы заводов и промышленных предприятий на Восток страны. Демонтированные станки и промышленное оборудование отправлялось по железной дороге, а затем, когда железнодорожное сообщение было прервано, грузилось на корабли и отправлялось в Николаев и Мариуполь, но делалось это крайне не организованно, и беспорядочно. Многое ценное оборудование при погрузке было утеряно или повреждено, а часть заводского оборудования из-за невнимательности отправлялась по разным адресам.
Порядок эвакуации гражданского населения Одессы и беженцев из других районов Украины не был разработан и своевременно доведен до одесситов, многое решали связи, блат и деньги. В первую очередь из Одессы отправлялись «номенклатурные» работники, сотрудники НКВД, врачи, крупные специалисты. Когда началась эвакуация гражданского населения, то, чтобы попасть на борт корабля, было необходимо оформить эвакуационные документы и получить талоны, которые, кто бы сомневался, предприимчивое руководство порта стало продавать по бешенным ценам.
Вот, что писал о событиях тех дней Иосиф Каплер:
«Отступление продолжается. Фронт приближается. Уже появились в Одессе эвакуированные из Буковины и Бессарабии. Они осаждают пароходные и железнодорожные кассы. Очереди тянутся на целые кварталы. Глядя на них, одесситы готовятся к отъезду. Очереди растут с каждым днем. Началась спекуляция билетами и талонами на поезда и пароходы для эвакуации. Со спекулянтами борются, но это не помогает. Очень много в Одессе эвакуированных евреев. Они прибывают отовсюду и спешат дальше. Знают, что ждет их. Сообщения о том, что делали с евреями немцы в Варшаве, Люблине, других городах Польши и Буковины, вселяют ужас. Еврей считает минуты, когда эшелон, на котором он получил место, отойдет от Одессы. Пароходы переполнены беженцами, перегружены до отказа. Они идут в Мариуполь и к берегам Кавказа. Немецкие самолеты бомбят эшелоны и пароходы. Тысячи людей гибнут».
Даже те, кто, не смотря ни что, принял решение и хотел эвакуироваться не мог себе этого позволить, многие колебались, но было достаточно много и тех, кто и не собирался покидать Одессу и даже прятались в подвалах, предполагая, что с приходом немцев им будет не хуже, чем было при большевиках.
Адриан Оржеховский.
«3 сентября.
Говорят, что ещё в двух местах были сброшены снаряды и есть много жертв. Небо хмуро-неприветливое, вдали снова слышится неумолкаемый гул. Вот уже около месяца немцы топчутся вокруг Одессы. Чуть ли не каждый день нам всё кажется, что настаёт решающий для нас день, но эта пытка неизвестности продолжается без конца. Сейчас ровно 8 часов вечера. Сидим с открытыми окнами. Мы как приговорённые прислушиваемся к каждому шуму и гулу. Не гудит ли вражеский самолёт, не повторится ли и сегодня вчерашняя катастрофа. В нашем доме мы одни спим на втором этаже, остальные разъехались кто куда».
4 сентября.
Час ночи. Прошлую ночь я дежурил во дворе с 12 часов. Чьи-то тяжёлые снаряды пролетая свистели и со страшным гулом разрывались. Такой дьявольский концерт раздавался несколько часов подряд. Кто стрелял, и кто отвечал так нам неизвестно. Вот и сейчас раздаются где-то ужасные взрывы, даже слегка вздрагивает пол под ногами. Вот вдруг слышится где-то знакомый гул мотора, это самолёт. Но чей? Напрягаешь слух, хочется скорей узнать, вот он приближается, уже над головой гудит. Но зенитки молчат, значит наш, вздыхаешь облегчённо. Иной раз фантазия рисует ужасную картину, кажется, летит снаряд, попадает в наш дом, а он рушится как карточный домик и хоронит тебя всей своей тяжестью.
Говорят, прибывают морем новые подкрепления, Одессу сдавать запрещено, значит, бой в городе неминуем. Что-то будет? Ко всем переживаемым прелестям наступило резкое похолодание. О продуктах питания я и не пишу. Началась почти голодовка. Говорю почти, т.к. дают по 400 грамм хлеба и пока больше ничего. Только русский человек в состоянии выдержать эту пытку. Разве моё перо в состоянии описать, какие страдания переживает всё население. А ведь всему этому и приблизительно конца не видно. Не придётся ли и нам по примеру Парижа ловить кошек и есть их».
Сергей Сергеев, 40 лет, морской офицер.
«10 сентября.
Перед нашими изумленными взорами развернулась потрясающая панорама обороны Одессы.
На огромном фоне трепещущего огненного зарева, освещающего почти половину небесной сферы, ярко оранжевые бешено перебегающие сполохи по всему фронту взрывов и выстрелов тысячи орудий, молнии снарядных трасс в кровавом небе создают видение фантастическое, дикое, почти нереальное. Громы взрывов и орудийных выстрелов сливаются в единый устрашающий гул. Воздух дрожит, сотрясается и наполнен воем, скрежетом и громовыми раскатами.
Страшно от этого могучего дыхания войны.
Мои друзья и боевые товарищи, покрепче стиснем зубы, чтобы не стучали. Не думая ни о чем, без оглядки назад, нырнем в этот бушующий кипящий котел огня.
И мы нырнули с головой в это варево смерти.
Надо быть там, в огне под Одессой, чтобы действительно все понять и прочувствовать на себе весь ужас беспощадной свирепости боев, побывать в кровавых свалках людей и проникнуться уважением Величию и мужеству человеческого Духа».
1 октября.
Одесский огненный котел сжег своих защитников. Фронта нет, он умер. Об Одессе уже больше не говорят, она перестала быть нашей — до лучших будущих времен. Знаю! Верю! Остались тяжелые героические воспоминания и тысячи мучеников в госпиталях, живых свидетелей былой славы. Крымский фронт рухнул, как легкий заборчик. Немец прет на Севастополь. Нет уже никакого сомнения в том, что вскорости в Севастополе и вокруг него вспыхнет огненное кольцо, и заклокочет смертельное варево. Злость. И обидно».
Владимир Швец.
«3 октября.
Совсем поздно прибежал отец и наделал паники, что Одессу готовят к сдаче. Целые дивизии срывают с фронта, оголяя подступы к Одессе. Отец не может понять цели такого распоряжения, ибо за последние …! Неужели так бездарно командование? Неужели из-за остальных подгадивших фронтов сдадут Одессу?»
Адриан Оржеховский.
«4 октября.
За эти три прошедшие дня сразу всё перевернулось. Лозунг: «Одесса была, есть и будет советской» окончательно и бесповоротно потерял своё значение. Вчерашний день это был день настоящей всеобщей паники. У нас на заводе вчера получили приказ: всем явится в военкомат. Одних окончательно освободили, других послали на комиссию, а третьих взяли. Войска полным ходом грузятся на пароходы. Лошади, пушки, снаряды, танки — всё грузится. Вчера весь день и всю ночь была артиллерийская канонада, сливавшаяся в сплошной беспрерывный гул. Даже наши самолёты перестали летать, не видно и вражеских. В 6 ч., когда я шёл по улице домой, над головой свистели снаряды и где-то разрывались. Говорят, это был неприятельский салют отъезжающему пароходу с войсками. Я нашёл немецкую прокламацию следующего содержания:
Командиры и бойцы! Одесса всё равно, что потеряна! Такой город как Одесса не защищается без войск, без воды и без пищи. Крым и Кавказ атакованы и частью заняты германскими войсками. Петроград окружён. Москву, бомбардируемую днём и ночью, мучают жиды, которые собирают детей на фронт сражаться. Киев, который некоторое время сопротивлялся, был занят! Через несколько дней падёт Одесса, несмотря на ненужные жертвы со стороны гражданского населения, стариков, женщин и детей. Кавказцы и кубанцы не будут защищать одесских жидов. Они поголовно сдаются в плен. Следуйте их примеру и переходите к нам!
Только что передали по радио, что немцы на подступах Москвы. Таково положение сегодняшнего дня. События разворачиваются молниеносно.
Очень жалею, что не писал эти прошедшие советские годы — дневник. А было о чём. 24 года невзгод, унижений незаслуженных, два приличных голода и непрерывная драка в очередях из-за всего, начиная от лука и картофеля и кончая питьевой водой».
Настроение одесситов было близко к паническому, все уже понимали, что приближается катастрофа и Одесса будет в ближайшие дни сдана.
Вот, что пишет Г. Петерле:
«Психология населения была в те дни очень своеобразна и пестра. С одной стороны, советское радио по телефонной сети (индивидуальные радиоприемники в первый месяц войны было приказано снести на особые склады) передавало «героические боевые эпизоды», неясные военные сводки, по которым казалось, что все идет вполне благополучно, — с другой стороны, подпольно ползли слухи о неудачах на фронте, о частой и почти добровольной сдаче в плен значительных советских отрядов, если не дивизий. У людей складывалось впечатление, что все россказни о превосходной моральной и технической подготовленности Красной армии оказались мифом, и даже низовые представители партийцев и комсомола позволяли себе неосторожно выражать сомнение в благополучном исходе. Советская пропаганда всячески подчеркивала фашистские зверства, повествовала о тысячах замученных, повешенных, расстрелянных в оккупированных районах, но нигде и ни разу не сказала в те дни о геноциде еврейского населения. Получалось, что страдали вообще советские патриоты, партийцы, активисты.
Для юга же СССР и, в частности, для Одессы — с большим количеством еврейского населения — надо было предупредить о том, какое бедствие несет с собою гитлеровская армия для громадного числа людей «неарийского происхождения». Между тем этот вопрос оставался неясным, и кроме слухов, многим казавшихся фантастическими ничего достоверного властями сообщено не было. Можно утверждать, что в разыгравшейся трагедии и гибели ни в чем не повинной еврейской массы, большую долю вины взяло на свои плечи советское правительство. Если бы население было предупреждено официально, то не было бы колеблющихся — эвакуироваться из Одессы или нет. Больше того, среди еврейской интеллигенции и среди бедноты можно было услышать такое рассуждение: могут ли цивилизованные немцы быть средневековыми варварами; я, мол, знаю немцев, бывал в Германии, с ними можно жить получше, чем с советскими энкаведистами, которые и распускают нелепые советские слухи.
Представления о немцах как о культурной нации подкреплялись и воспоминаниями о времени немецкой оккупации Украины в годы Первой мировой войны, о немецких и австрийских кайзеровских войсках. Так что рассказы о зверствах немцев в значительной степени воспринимались как пропаганда».
Дневниковых записей с 4 по 16 октября я больше не нашел, очевидно в эти дни, наполненные тревожным ожиданием, одесситам было не до них.
Поэтому, хочу закончить короткой дневниковой записью, которая сделала советская поэтесса Вера Инбер, бывшая одесситка, Шпенцер Вера Моисеевна.
«14 октября.
Жестокие бои под Одессой. Я так давно оттуда! Мне казалось, что она для меня как все другие города. Я уже почти не ощущала ее родной. А теперь чувствую, что она по-прежнему дорога и близка мне.
Написала стихотворение «Обращение к Одессе». Вероятно, завтра будут транслировать его по эфиру, чтобы и в Одессе услышали меня».
15 октября.
«Не успела выступить. В Одессе немцы».
Вот это стихотворение с небольшим сокращением, написанное в стилистики того момента, очень патриотичное, но, безусловно, искреннее.
Овеянная черноморским ветром,
Оправленная в пенистый прибой,
Две тысячи… нет, больше километров
Одесса, разделяют нас с тобой.
Степная воля и морская сила,
Простор, влекущий в дальние края,
Таким тебя мне память сохранила,
Чудесный город, родина моя.
Сейчас, под небом севера угрюмым,
Твои я вижу южные черты:
Твой ясный кругозор, твой светлый юмор
Твой горизонт высокой красоты.
Ты слышишь ли меня? Из Ленинграда
Я шлю тебе дочерний свой привет.
Вокруг тебя пальба и канонада,
И так же, как и здесь, погашен свет
И так же, как и здесь, горит отвага
Которую ничем не погасить,
И так же, как и здесь, под алым стягом
Одессу защищает одессит.
Вот точно так же, распахнувши ворот,
Вдыхая ветер моря, не рекИ,
С фашистами за свой родимый город
Одесские дерутся моряки.
Вот точно так, в Одессе напряженной,
Вливая бодрость в мужа и отца,
Сильны душою матери и жены,
Мужской закалки женские сердца.
На этих женщин, с воинами рядом,
Глядит страна, дыханье затая.
Привет тебе! Привет от Ленинграда,
Чудесный город, родина моя!
Утром 15 октября над Одессой кружил советский самолет, который разбрасывал листовки, в которых сообщалось, что по стратегическим соображениям советские войска оставляют город, но одесситы и без них уже осознали это, последние сутки Одессу уже не бомбили.
Рано утром 16 октября крейсер «Червона Украина» последним покинул Одесский порт и взял курс на Севастополь. Одесса была сдана. В этот же день 16 октября, по какому-то дьявольскому и необъяснимому совпадению, немецкие войска могли бы войти и в Москву. Положение на линии фронта под Москвой было критическое, немцы мощно наступали, окрыленные ощущением скорого падения столицы СССР, уже были отпечатаны приглашение на парад немецких войск на Красной площади. Свежие сибирские войска еще не успели подойти к Москве. Как стало известно уже после войны, накануне, 15 октября Государственным комитетом обороны СССР было принято секретное постановление об «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы», предусматривавшее отъезд из Москвы советского правительства во главе со Сталиным. По распоряжению Кагановича 16 октября должен был быть подготовлен подрыв всех линий московского метро. Сохранить в тайне все эти документы, конечно, не удалось, и по Москве поползли слухи. Вот, что написал об этом дне Константин Симонов в своем романе «Живые и Мертвые»:
«Десятки и сотни тысяч людей, спасаясь от немцев, поднялись и бросились в этот день вон из Москвы, залили её улицы и площади сплошным потоком, нёсшимся к вокзалам и уходившим на восток шоссе».
Если бы фашисты знали истинное положение в Москве, то могли бы почти свободно войти в Москву.
Там же, в романе Симонов писал:
«В самой Москве было достаточно людей, делавших всё, что было в их силах, чтобы не сдать её. И именно поэтому она и не была сдана. Но положение на фронте под Москвой и впрямь, казалось, складывалось самым роковым образом за всю войну, и многие в Москве в этот день были в отчаянии готовы поверить, что завтра в неё войдут немцы. Как всегда, в такие трагические минуты, твёрдая вера и незаметная работа первых ещё не была для всех очевидна, ещё только обещала принести свои плоды, а растерянность, и горе, и ужас, и отчаяние вторых били в глаза».
«Твердая вера», о которой пишет Константин Симонов, еще только обещала принести свои плоды, а «растерянность, и горе, и ужас, и отчаяние» терзали души советских людей прямо сейчас, в эти первые несколько месяцев войны. Минск сдан немцам еще 28 июня, Ленинград блокирован 8 сентября, Киев пал 19 сентября, Одесса 16 октября, и в этот же день только чудо спасло Москву от захвата немцами.
Что в эти дни могли чувствовать одесситы? Страх, отчаяние, надежду? Как Одесса и сами одесситы пережили годы оккупации? Советские послевоенные учебники истории давали дозированную, отфильтрованную, идеологически выверенную информацию об этих годах, и только недавние публикации позволили представить нам, что на самом деле происходило в Одессе в то время. «Рукописи не горят» — нашлись сотни дневников, записи в которых обрывались на полуслове, опубликованы многочисленные воспоминания очевидцев и чудом выживших жертв, найдены и стали доступны тысячи документов, от чтения которых мурашки бегут по спине и стынет кровь в жилах. Теперь всё это можно прочесть.
Я не знаю точно, что думали, о чем говорили и как прожили свои последние дни мои родственники в квартире на Екатерининской улице, но информации о том, что происходило в те дни рядом с ними, буквально за стенами их дома, достаточно, чтобы представить их состояние. В середине дня 16 октября в Одессе появились не немецкие, а, в основном, румынские войска, они долго не решались войти в город, опасаясь засад.
 |
Сейчас оставим Одессу и вернемся к моим ленинградским одесситам. Если моя мама и её братья — родной Лева и двоюродный Борис 22 июня 1941 года встретили в Ленинграде, то мамина двоюродная сестричка Маргариточка уехала из него в Одессу за месяц до начала войны, но, тем не менее, хочу начать с неё.
22. Тикама
«Меня зовут Тикама», — сказала однажды утром Маргариточка, когда ей не было еще и двух лет. Наверное, ей что-то приснилось, и с тех пор она откликалась только на это имя, да никто и не возражал. Тикама, Тикамочка — так и обращались к ней всю её недолгую жизнь.
Семья Эйдельбергов приехала в Ленинград в 1932 году, когда Тикаме было чуть больше года, и она прожила там всю свою жизнь, уехав в Одессу на школьные каникулы в 1941 году, поэтому её можно назвать ленинградкой, хотя вряд ли она успела до конца понять, в каком городе она жила, познакомиться и полюбить его. Крестовский остров, где они жили на проспекте Динамо, был, конечно, частью Ленинграда, но городом в полном смысле этого слова его назвать было нельзя, скорей это был ближний благоустроенный пригород.
Я уже раньше писал, что часть его была застроена богатыми коттеджами, окруженными старыми деревьями, а другая часть, выходящая к финскому заливку, была отдана спортивным клубам и стадионам. Вот в этом окружении, лишенном городского шума и суеты, росла Тикама, гуляла с мамой в большом палисаднике около дома, а потом и сама по аллеям Крестовского острова. В центр города ездили редко, большую часть проводили дома с мамой, которая не работала. Подробностей их повседневной жизни я не знаю и потом, уже после войны, в детстве, когда я очень много времени проводил у тёти Веры на проспекте Динамо, о той жизни почти не говорили, это было табу, оберегающее тётю и дядю от излишних переживаний.
Наверное, в года три, как и всем девочкам в этом возрасте, ей подарили куклу. Это была кукла, с живым, почти человеческим взглядом темно карих глаз, ничего общего не имеющая с теми пластмассовыми пупсами с туповатым выражением лица, которые продавались тогда в детских магазинах. Очевидно, дядя купил её в комиссионном магазине или кто-то привез её из Германии. Её головка была сделана из фарфора, а над личиком, наверное, трудился настоящий скульптор, т.к. оно было живым, добрым и осмысленным. Её глаза имели веки и реснички, которые закрывались, когда Тикама укладывала её спать. Ручки и ножки тоже были фарфоровыми, одета она была в красивое бальное платье, под которым было кукольное кружевное бельё, а на ногах маленькие настоящие туфельки. Я так точно описываю её, т.к. не раз наблюдал, как тётя Вера раздевала её, чтобы постирать и погладить платье. Конечно, Тикама много играла с ней и не расставалась с ней ни на минуту. Вот на этой потускневшей фотографии, видно, как Тикама кормит куклу и трудно сказать, кто из них очаровательней.
В детский сад она не ходила, с девочками её возраста на улице и у себя дома не общалась, поэтому помимо куклы круг её общения ограничивался родителями, братом Борисом, который был старше её на 5 лет и её двоюродной сестрой, моей будущей мамой, которая приехала в 1939 году в Ленинград доучиваться в финансово-экономическом институте. Наверное, поэтому Тикама росла тихой, ласковой, доброй и послушной девочкой, была всеобщей любимицей. Рано начала читать. Первые друзья у неё появились в школе, которая находилась рядом с домом, буквально за забором, который проходил прямо около стен их дома.
Уже в первом классе дома стали появляться её подружки по классу, но её верным и постоянным товарищем, который защищал её от других ребят, стал мальчик, которого звали Зураб, хотя в школе он был для всех Зурка. Он родился в Грузии в семье заслуженного тренера СССР Давида Цомая, но в возрасте двух лет был усыновлен по неизвестным мне причинам Александром Шехтелем, тоже знаменитым советским спортсменом, заслуженным мастером спорта, чемпионом СССР по метанию молота. Зурка был высоким, немного полноватым и флегматичным, но при этом очень добрым мальчиком. Как рассказывала тётя, он почти каждый день приходил к ним в дом к Маргариточке, они играли, делали уроки, а потом вместе обедали, хотя, возможно, все это происходило и в другом порядке. У Зурки был хороший аппетит, трудно было не заметить, что он всегда хотел добавки и, конечно, получал её. Тикама подсмеивалась над ним, но он не обижался.
Эта склонность хорошо покушать и все делать не спеша и помешали Зурабу достичь самых больших высот в спорте, хотя после войны и окончания школы он подавал большие надежды в футболе, стал профессиональным футболистом, мастером спорта. Начал он свою карьеру вратарем в ленинградском Динамо, но потом играл и за Зенит, и за другие советские футбольные клубы. Вот, что написано о нём в Википедии: «Рост Шехтеля был 182 см, а вес более 100 кг, однако он был подвижен и пластичен, уверенно играл и на линии, и на выходах. Достичь больших успехов в карьере ему помешала лень и нежелание тренироваться. Шехтель любил плотно поесть и много поспать». С его именем связана одна очень распространенная легенда: якобы он, выбивая мяч от ворот, сделал это с такой силой, что мяч влетел в противоположные ворота соперника, а в них стоял легенда советского спорта Лев Яшин. Возможно, что Яшину он гол, в самом, деле, не забивал, но то, что такой случай все-таки был в игре с какой-то другой командой, многие знатоки футбола не отрицают. Кто знает, может, если бы около него была его подружка Тикама, у него сложилась другая судьба.
В 1967 году я был с друзьями на небольшой базе отдыха на Вуоксе, мы там арендовали лодки, и я случайно разговорился на пирсе с высоким пожилым человеком с густой седой шевелюрой, им оказался Александр Шехтель, отец Зурки. Разговор был короткий, но очень теплым, он помнил о дружбе Зураба и Тикамы. Прошло пять лет и жизнь Зураба Шехтеля трагически оборвалась, в 1972 году, когда ему было только 40 лет, он с высокого берега нырнул в воду и разбил голову о лежащем на дне камне.
В конце апреля Тикама закончила второй класс и стал вопрос, где проводить летние каникулы. По приглашению её одесской тёти Соки было решено, что она поедет в Одессу, тем более, что над их семьёй нависли неприятности: 24 апреля был арестован отец. На меховой фабрике «РотФронт», где он работал директором по производству, обнаружилась недостача меха. Специфика пошива шуб такова, что при раскрое и подгонке шкурок одна к другой, существенная их часть обрезается: лапки, шейки, закругления идут в отходы или в мех третьего сорта. Эти отходы трудно учитываются и при желании проверяющей комиссии можно обвинить руководителя в хищении. Так, как стало потом известно, получилось и в данном случае, обвинение в хищении с дяди сняли, но все же осудили за халатность на 1,5 года колонии.
Тикама, зная, что она скоро уедет в Одессу и долго не увидится с подружками, попросила нескольких девочек написать в её альбомчик их любимые стихи. Была весна, и все её подружки написали в альбоме по одному стихотворению про это время года. Альбомчик сохранился, а в нем семь стихотворений, написанных старательными детскими почерками. Но одно стихотворение на первой страничке было написано твердым, уверенным почерком. Это стихотворение записал дочке в альбом и подписался внизу её папа, мой дядя Або Эйдельберг, оно датировано 22 апреля, за два дня до его ареста и за неделю до отъезда Тикамы в Одессу.
Стихотворение, чьи только первые две строфы записал дядя, называется «Одуванка» и принадлежит русской поэтессе Поликсене Соловьёвой, сестре известного русского философа Владимира Соловьёва. Дядя с названием ошибся, написал Одуванчик, а на самом деле «Одуванка». Поликсена Соловьева умерла в 1924 году, но оставила в русской поэзии яркий след. Блок и Горький очень высоко отзывались о её поэзии для взрослых, в которых прослеживалось влияние философских воззрений её брата. До революции она выпускала детский журнал «Тропинка», а в 20-х годах продолжила писать детские стихи сама. Часть её стихотворений вошли в один из томов «Библиотеки поэта», которую М. Горький начал издавать в 1931 году. Наверное, этот томик со стихами и был у Тикамы. Всего в стихотворении 8 строф, вот оставшиеся шесть, которые в альбомчик не попали:
От берез ложилась тень,
Мошкара кругом плясала.
Одуванка целый день
До упаду хохотала:
«Ха-ха-ха! Хи-хи-хи!
Как смешны седые мхи!
Старички ужасно строги.
Как смешны поганок ноги…
Шляпки — словно крыш верхи…
Ха-ха-ха! Хи-хи-хи!»
Старый дедушка седой,
Одуванчик родом тоже,
Смех услышал золотой,
И ворчит: «На что похоже!
Что за глупый этот смех!
Головой качает строго.
Так смеяться даже грех:
Старость тоже ведь от Бога».
«Как смешно-то, ой-ой-ой!»
Одуванка повторяет.
Дед качает головой
И сединочки теряет.
«Погоди» — промолвил дед:
«Одуванка золотая,
Золотой не долог цвет:
Тоже будешь вся седая.»
В ту же ночь сбылись слова:
Пробуждается полянка,
Смотрят мхи, кусты, трава –
Вся седая Одуванка.
«Ах, беда моя, беда!
Горько плачет хохотушка.
Засыпала молода,
А проснулась я – старушка».
Вроде, детское стихотворение, а если внимательно прочитать, то — нет, это про жизнь, которая так быстро мчится.
Тикама уехала в Одессу 29 апреля 1941, а за несколько дней до отъезда успела сфотографироваться со своей двоюродной сестрой, моей мамой. По каким-то причинам альбомчик она забыла взять с собой, он остался дома, сохранился во время блокады, и вот лежит передо мной.
 |
23. Мамина война
Я уже писал выше, что при написании этих записок стараюсь, по возможности, опираться только на документальные материалы и на рассказы моих родственников, которые хорошо помню. Когда точной информации мало или она вообще отсутствует, то, используя литературные источники или Интернет, пытаюсь реконструировать обстановку и события, происходившие в те времена и в которых мои родственники могли принимать участие. Поэтому в этой главе, посвященной началу и годам войны, начну с маминых записок.
«Застала меня война в рабочей комнате общежития (Финансово-экономический институт, что на Садовой улице), где я готовилась к государственным экзаменам. Бросили мы книги и побежали к черным тарелкам, откуда услышали жуткое сообщение…на рассвете враг бомбил Одессу, Севастополь и другие города.
Только сейчас, оглядываясь назад, можно все оценить, ибо в тот момент молодость мешала правильно все понять. Казалось, что это на пару дней, и все будет ликвидировано. Через три дня, 25 июня мы сдавали экзамены. Это был последний, но все были заняты войной. Ребята шли в ополчение. В первых числах июля в составе студенческого отряда отправили рыть окопы в районе Средней Рогатки. Народу было много, мы по легкомыслию поехали плохо подготовленные. Условия были тяжелые, рыли глинистую почву, не хватало лопат, спали вповалку. Но отношение к делу было очень искреннее, патриотическое, без ропота. Возвращались мы, кто как мог, на открытых платформах, т.к. была команда уйти.
После окончания института была направлена в Петрозаводск, но почти никто никуда не поехал, и я начала работать экономистом на судоремонтном заводе Балтехфлота, где принимала участие в отряде самообороны. Были дни, когда я не уходила с завода, т.к. регулярные тревоги по 6-7 часов заставляли отсиживаться в бомбоубежищах. Несколько раз, возвращаясь с завода, попадала под артобстрел, спасаясь от него в подворотнях домов.
Несколько слов о впечатлениях о народе в Ленинграде. Сейчас могу сказать, что это было невероятно патриотическое движение всех женщин, стариков и даже подростков. Люди хотели все делать. Мне приходилось дежурить ночью на чердаке дома по улице Толмачева, где я ночевала в комнате брата, ушедшего на войну с ополчением Кировского завода. Со мной были старые женщины и мужчины, и все с полной ответственностью дежурили. Убирали чердак от хлама, поднимали наверх песок. Появлялась черта в людях особенная, верили, знали, что все равно победа будет за нами.
Постепенно изменялся город. Витрины закрывали мешками с песком, в садах рыли траншеи. Лично я рыла траншеи в садике за оградой Финансовой академии. В городе оставался мой двоюродный брат с мамой, моей тетей. Ему было 15 лет, он все время дежурил в райкоме комсомола, разносил повестки, приходил домой поздно, но считал, что этого очень мало. Дежурил на крыше и самое главное то, что он участвовал в поимке диверсантов. Я ему не верила, но однажды лично видела, когда по ул. Динамо женщины вели мужчину, который пускал ракеты из окна школы. Они его чуть не убили. Оказывается, было много случаев, когда подавали такие сигналы. В конце сентября завод, на котором я работала начали готовить к эвакуации, и я перешла работать в 18-ые авиамастерские, куда призвали служить моего мужа, с которым мы расписались 16 июня, за 6 дней до начала войны. Он с колонной машин, которая вывозила оборудование из таллиннского порта, с большим трудом добрался в начале июля в Ленинград.
(То, что мама вышла замуж, фактически, спасло ей жизнь и вот почему. Разбирая мамины, еще довоенные, фотографии, я наткнулся на небольшое фото, где мама снята около Одесского оперного театра вместе с мужчиной средних лет. Мама улыбается, на голове у неё модный в те годы большой берет, видно, что настроение у неё хорошее. На оборотной стороне фотографии её рукой написано: «Одесса, апрель 41 года, я с нашим руководителем преддипломной практики. Уже в Ленинграде он в конце июня предлагал мне билет в Одессу, но я отказалась, не знала, где Изя». Если бы поехала, то, наверное, разделила судьбу её родителей.)
Часть была на казарменном положении. Очень быстро город менял свое лицо. Питание, транспорт, люди. Всё было в очень тяжелом положении. В начале ноябре меня вместе с войсковой частью переправили на баржах через Ладожское озеро, которое уже начинала покрываться льдом. Баржи были металлические, чтобы не попасть под обстрел, нас всех усадили на дно и было очень холодно. Шестого ноября нас в Осиновце погрузили в вагоны и отправили в город Буй. а уже через два дня немцы захватили Тихвин. Там я поступили вольнонаемной в часть, в которой служил мой муж. Нас привлекали к любым работам и даже к ремонту самолетов.
В апреле 1942 года часть перевели ближе к Ленинграду, в поселок Пестово, Новгордской обл. Там часть обосновалась и развернула несколько цехов, где занимались ремонтом самолетов, получивших повреждения в воздушных сражениях. Мастерские работали круглосуточно. При переезде из Буя в Пестово мы видели вереницы поездов с эвакуированными из Ленинграда. Это была незабываемая картина. Закопченные, закутанные люди, очень слабые, но уже чуть-чуть ожившие. При переезде через Ладогу было организовано питание детей. Давали сгущенное молоко, манную кашу, и люди оживали. Видела я и открытые платформы, полные трупов, видела умершую мать с живым ребенком на груди. Ужас.
Работали очень много, день был не нормирован, были моменты, когда нас привлекали в самолетный цех натягивать перкаль на самолетные крылья и красить их. Видела однажды в столовой молодых летчиков, которые весело болтали, обедали, а на следующий день уже почти их всех не было в живых».
Что можно сказать? Написано кратко, сухо, без особых эмоций, но память моя хорошо сохранила мамины более поздние воспоминания об этом периоде, с 1942 по 1947 год, который я, конечно, не мог помнить по определению или был слишком мал, чтобы фиксировать их в своей голове. Вспоминала она об этих годах на протяжении всей жизни по разным поводам и причинам, то с печалью, то, наоборот, с улыбкой.
Главная печаль и тревога всех лет войны была вызвана полным отсутствием информации о положении родных в оккупированной Одессе. Успели ли уехать в эвакуацию или остались в городе? Дома или в лагере? Живы или погибли? В начале войны о тотальном истреблении евреев в концентрационных лагерях в газетах не писали и по радио не сообщали. Доходили только слухи. От этих мыслей невозможно было избавиться. Отвлекали только повседневные заботы и работа в военной части.
Жили они с папой в обычной деревенской избе вместе с хозяевами. Печь, вода в колодце, удобства во дворе в любое время года. Папа весь день и часто ночь был в части, поэтому приходилось почти все делать самой, учиться с нуля. Шрам над правой бровью от отлетевшей при колке дров щепки остался у неё на всю жизнь. Прибавило забот, но еще больше отвлекало от тревоги за родичей мое рождение в конце января 1943 года. Был ли я плановым ребенком? Сомневаюсь. Виноват скорей всего месяц май, когда все началось или вернее зачалось, а май, как говорится, он и в «Африке май». Что еще можно сказать? Наверное, они искренне верили в Победу, так оно и вышло.
Как мама могла одна управиться с хозяйством и с заботами обо мне в первые полгода после рождения, трудно представить, если бы не тот счастливый факт, что еще осенью 1942 года к ним в избу подселили еще одну женщину, тоже эвакуированную из Ленинграда, Веру Иванову Кузякину. Тогда ей было, наверное, лет 45-50, но мне она запомнилась на всю жизнь, потом уже после войны, худенькой старушкой небольшого роста, с еще не полностью седыми волосами, расчесанными на прямой пробор и собранными в узелок на затылке. У неё были очень правильные и чистые черты лица, серые глаза, которые придавали её лицу светлость и ясность. Такие лица бывают на иконах у святых, а она, по моему мнению, и была святой: по делам своим, мыслям, по отношению к людям и к нам, в частности. Она была глубоко верующей, но, при этом, очень деликатным человеком, не афиширующим и не навязывающим свои религиозные взгляды и чувства, все было внутри неё, снаружи была только любовь и доброта. Она очень помогала маме управляться со мной, делала это просто и совершенно бескорыстно, но, мама, конечно, заботилась о ней, т.к. Вера Ивановна не работала, средств для существования почти не было, только карточки иждивенки.
Мама рассказывала, что она вылечила меня от золотухи, утверждая при этом, что помогла святая вода, в которой она меня купала. Современная «наука» объясняет это факт очень просто: в ведре с водой для купания Вера Ивановна постоянно держала свой большой серебряный крест, который потом я видел у неё на столе около икон в маленькой комнатке на последнем этаже дома на улице Зодчего Росси, где я бывал и даже по несколько дней жил в детском возрасте после войны. Ионы серебра, попадая в воду, и делали её целебной.
Судя по некоторым её фразам и лукавой улыбке, которые мне запомнились, она меня тайно крестила, для чего ей, конечно, надо было получить разрешение священника местной церквушки. Утверждать это не могу, но то, что она обращалась к нему за разрешением ставить свечки за здравие маминых родителей и молиться за неправославных людей, мама знала точно. Не знаю, как возможное крещение повлияло на меня, если только им можно объяснить мою крепкую привязанность и любовь к этой удивительной старушке, которая сохранилась и протянулась на всю её долгую жизнь.
Село Пестово, рядом с которым располагалась воинская часть, где служил мой папа, до моего рождения в 41-ом, 42-м и начале 43 года находилась в прифронтовой зоне, но, конечно, не в зоне боевых действий и каждодневной опасности погибнуть не было. Но были частые бомбежки, даже более частые, чем в Ленинграде. Немецкие самолеты бомбили сами мастерские, которые были фактически небольшим заводом, и аэродром, с которого поднимались в небо самолеты после ремонта. Зениток на подступах к аэродрому не было, поэтому ничего не мешало бомбить прицельно. Были повреждены здания нескольких цехов и, как рассказывала мама, были и убитые, и раненные, но никто из папиных сослуживцев и рабочих его цеха не пострадал.
Нагрузка была чудовищная, почти каждый день прибывали для ремонта подбитые самолеты и двигатели к ним, цеха работали круглосуточно, поэтому папа часто домой не возвращался и ночевал в цеху. Выдерживать такие условия работы и жизни помогала молодость и то, что рядом с ним служили многие его одесские товарищи еще по школе и институту. Когда выдавалось свободное время, они собирались, пили спирт, которого на заводе было вдоволь, закусывали американской ветчиной, вспоминали Одессу и мечтали о том, как будут жить после Победы.
О судьбе родственников мама узнала летом 1944 года уже в Ленинграде, когда после освобождения Одессы туда приехал мамин брат Борис, а затем её самая близкая подруга Тамара, и они оба написала ей письма, в которых сообщили ей о гибели родителей, но об этом позже.
24. Блокада
Первого мая 1941 года Борису исполнилось 15 лет, в этом году он заканчивал семилетку, был активным комсомольцем, занимался большим теннисам и все свободное время пропадал на стадионе «Динамо», который был в 100 метрах от его дома. Начало войны как раз и застало его на судейской вышке, где он судил игру теннисистов. Вот его воспоминание об этом дне и о скоро наступивших днях Ленинградской блокады:
«О начале войны узнал 22 июня на стадионе Динамо, сидя на вышке — судил теннисные соревнования между Украиной и Ленинградом. Отыграли несколько геймов, и вижу, что народ бежит к репродуктору, который был установлен на башне около ресторана. Сообщаю игрокам и бежим туда — застаем начало речи В.М. Молотова — война, бомбили… и т.д. Выходим со стадиона вместе с Виктором Набутовым, который сказал: «Домой и в военкомат».
(Виктор Набутов был известным футболистом и еще более известным и любимым всеми послевоенными болельщиками футбольным радиокомментатором).
Дома мама ничего не знает, соседи не знают, а я ляпнул – война. О чем мама подумала я не знаю, но подумать было о чем: дочка в Одессе, муж, отец детей, в тюрьме. Когда мама поехала в тюрьму с передачей, ей сказали, что всех вывезли из Ленинграда, а в очереди твердо были уверены, что всех расстреляли и говорили об этом не стесняясь. К счастью, это оказалось неправдой.
Мы с мамой в тяжелейшем положении — дома пусто, запасов нет, каждая копейка на учете. Где папа, неизвестно. Что в Одессе? В действительности выяснилось, что нашей фантазии не хватало и на 5%. А город готовится к обороне. Сдаем радиоприемники, собираем велосипеды. Одновременно бутылки для зажигательной смеси, которую стали выпускать на химкомбинате. Строим щели для укрытия во время бомбежки, а для этого надо вытаскивать бревна из воды — плоты для этого пригнали. Учимся гасить зажигалки и красить деревянные перекрытия огнеупорной краской. Разношу повестки военкомата по заданию райкома комсомола. В промежутках строим противотанковые рвы в районе деревни Сосница, а мама в это время роет окопы на Карельском перешейке. Зачислен в рабочий отряд, знаю место, где мой ДЗОТ, в котором я второй номер пулеметчика. Это на случай уличных боев. Все перекрестки, где есть каменные здания, укреплены.
Я — активный комсомолец — то в разъездах по району с листовками из типографии, то на казарменном положении с группой, работающей против ракетчиков. Нас пытаются подкормить. За тушение пожара здания по Кировскому проспекту №60 дали по коробке папирос «Северный полюс», даже стакана чая не было… К 7-му ноября дали пол-литра плодового вина и кусок хозяйственного мыла. Мама сварила из вина кисель без сахара. Становится все хуже. Над городом мгла, летает пепел-жгут архивы в массовом порядке. Уже сгорели Бадаевские склады. (склады сгорели еще 8-10 сентября, было уничтожено 3000 тонн муки и 2500 тонн сахара). В декабре пайка у нас по 125 грамм хлеба и больше ничего. А хлеб? Нет названия. Просто хлеб блокадного Ленинграда в конце 41-го и в начале 42-го года. В доме было три теннисных ракетки. Вот, мы их и съели. Ведь тогда струны ракеток делали из натуральных кишок рогатых.
(В этом месте хочу упомянуть об одном невероятном факте, о котором мне как-то рассказал Борис. Недалеко от их дома находился небольшой деревянный домишка, в котором жила одна пожилая женщина, державшая в своем сарайчике двух коз. Она их так любила, что во время блокады их не только не съела, не продала или обменяла, что держала их в комнате, выискивала корм, делилась хлебом и водой, молоко сама не пила, а относила раненым солдатам в госпиталь, который располагался недалеко, на Каменном острове. Учитывая, что к этому времени были уже съедены все кошки и собаки, в это трудно поверить, но такой факт был. В, конце концов их украли, и она быстро умерла).
С 25 января по 1 февраля 1942 года хлеб не давали совсем. Но, когда дали, то хлеб стал похож на хлеб. Вернули за все дни, и мы получили маленькую буханочку и еще горбушечку, да и на карточки выдали чуть перловки и чуть сахара. Это начала работать дорога на Ладоге. Наше счастье, что у нас были дрова, сарай полный дров, Папа позаботился, как будто предчувствовал, а за водой на Неву ходить, как всем вокруг, не приходилось. В подвале, в прачечной из лопнувшей трубы все время бежала вода. Было тепло, была вода, а значит мы были чистые, без вшей. Постепенно силы кончались, уже почти не вставали.
В конце февраля вдруг видим, что около дома остановилась грузовая машина, из неё вышел человек в полушубке, вошел во двор, через минуту звонок. (Помнишь на входной двери звонок: «Прошу повернуть»). Это машина из Буя, из той части, в которой служили твои родители. Приехал некий Абергауз за деталями к самолетным двигателям. В машине были продукты для родственников тех, кто служил в части. Продукты большой частью были посланы воинской частью, а посылки конкретно от родственников из расчета на 2-3 дня, т.к. как он сообщил, что через два дня надо быть готовым к эвакуации в г. Буй. (Как выяснилось уже после прибытия в Буй, этот Абергауз отдал людям не более 25% продуктов, остальное присвоил). Нам вручил только посылку, но она была разорвана и все перемешено. Договорились об отъезде. Хорошо, что он указал адрес, где остановится. Сказал, что уедем через два дня, надо собрать еще 4-5 семей, оформить эвакоудостоверения. Через пару дней от продуктов ничего не осталось, а эвакуатора нет и нет… Опять голодаем, но уже хуже. Не знаю, как думают специалисты, а я считаю, что голодать легче без перерыва на подкормку.
Решаю, что пойду к этому Абергаузу на Васильевский остров, не то 10-я, не то 12-я линия, но дом первый от Среднего проспекта. И сейчас бы нашел эту квартиру с медной дощечкой на дверях с фамилией Абергауз. Эта дощечка висела на дверях и в 1954 году. Я случайно оказался в этом районе, а точнее ждал даму и вдруг почувствовал себя странно, по меньшей мере. Как под гипнозом вошел в парадную и нашел эту дверь. Мама боится, что я не дойду, но идти надо. Жить осталось 2-3 недели — появились черные пятна на теле, а каждая чешуйка на коже стоит дыбом. Проведешь рукой — как по рашпилю. Пошел через наш мост по Зелениной улице, затем на Геслеровский проспект к Тучкову мосту. С моста по 1-й линии к Среднему проспекту. Очень холодно. На улице уныло, очень тихо, как будто в воздухе разлита опасность. Прохожих очень мало. Один-два выглядят нормально, а остальные какие-то призраки, а не люди. Да и я такой же. Одет в папино полупальто, а точнее крытый полушубок старый, на голове фланелевая шапка с ушами, на ногах сапоги на три номера больше. Стоят засыпанные снегом трамваи, редко автобусы. Протоптаны тропинки. Попались санки с трупом, да и на улице встречаются не убранные. Ведь отсюда недалеко до стадиона им .Ленина, а там хоронят в братской могиле. За мостом поравнялся с упавшим мужчиной, просит помочь подняться, не знаю, что делать. Попробую помочь — ляжем рядом. На счастье, ехала автомашина с солдатами. Остановились, помогли и сказали, что довезут, благо по дороге. Пошел дальше, наконец дошел. Поднялся, этаж не первый. У дверей квартиры учуял запах кофе. Подумал, что, наверное, дадут кусочек хлеба. Постучал, дверь открыли, но в квартиру не пустили. В прихожей склад — два мотоцикла, ковры в трубках, коробки. Сказали, что через 1-2 дня приедут. Документы долго оформлялись. Это вранье. Мы с мамой сами на себя оформляли, и это было сделано за 10 минут в райисполкоме при свете коптилки. Также выдавали карточки каждые 10 дней в домоуправлении без всякой волокиты. В одно из таких посещений я прошел под арку в парадную, там было пусто, а когда вышел, то уже лежит мертвая девочка раздетая, значит выкинули из квартиры. Но это была редкость, т.к. обычно держали трупы дома, чтобы получать карточки. Как я вернулся домой на Динамо, ничего вспомнить не могу.
Эвакуатор приехал уже за полуживыми, а семья доктора воинской части погибла, т.к. Абергауз привез продукты к ним поздно. Обделывал свои делишки. Вот этот доктор был главным, кто требовал судить Абергауза, но проходимец из части пропал.
Переехали по Ладоге в Волховстрой на автобусе. Было холодно и тесно, т.к. половина автобуса была загружена ящиками с деталями. Оттуда в Буй на поезде, где немного оклемались и поездом на Урал в Чебаркуль, но все не так просто. В Свердловске высадили и там находились долго. Спали на полу около камер хранения. В Челябинск был не уехать. Спасибо начальнику вокзала за то, что я стал убирать территорию в течении нескольких дней, и он продал нам билеты. Из Челябинска добрались до Чебаркуля в мае 1942 года.
Я вспоминаю то время или приснится прошлое и становится жутко. Не верится, что это могло быть и это можно было пережить».
25. Левина война
Где и как Лев встретил известие о начале войны я не знаю, но точно известно, что буквально через несколько дней после её начала он взял свой, уже заранее собранный вещмешок, наверное, поцеловал жену и ушел с заводским ополчением Кировского завода на свою уже вторую войну. В начале июле в районе Нарвы был опять ранен, уже тяжело, и с госпиталем попал на Кавказ, откуда через несколько месяцев после выздоровления с азербайджанским пополнением был отправлен в Севастополь, где участвовал в его обороне.
Севастополь был важной стратегической точкой в Крыму, и его захват существенно повлиял на ход войны. Его оборона длилась 250 дней и, начиная с ноября 1941 по май 1942 года, силы Севастопольского оборонительного района (СОР) отбили три сильнейших наступления немецких войск, включая артиллерию и авиацию. Все же сопротивление советских войск на востоке Крыма к концу мая 1942 года было окончательно подавлено, сказалась нехватка боеприпасов, оружия и большие потери в войсках. Севастополь был окружен и оккупирован, это дало Гитлеру множество преимуществ на фронте. Остатки войск в Севастополе и Херсонесе должны были быть эвакуированы на кораблях черноморской флотилии, но эвакуация была организована, по воспоминаниям очевидцам и документам, которые стали доступны через много лет после войны, очень плохо.
Информация о местах и времени эвакуации доводилась с опозданием, на причалах скапливалась масса солдат и жителей Севастополя, не хватало кораблей и катеров, хотя, как пишут в воспоминаниях очевидцы тех событий, к эвакуации можно было бы привлечь рыболовецкие катера и лодки, которых в прибрежных поселках было очень много, но этого сделано не было. В первую очередь эвакуировали командование войсками, городских и партийных руководителей, членов их семей. В последнюю ночь эвакуации, когда немецкие войска уже были в городе, на пирсе происходили душераздирающие сцены. Солдаты, матросы и гражданские люди, в основном женщины и дети, штурмовали корабли, люди кричали, умоляли, пытались прорвать охрану, которая в какой-то момент открыла огонь по людям, многие цеплялись за трап, падали в воду и пытались плыть за отходившим кораблем. Но эвакуировать удалось лишь незначительную часть защитников города. При этом, судя по телеграмме генерала армии Николая Ватутина маршалу Семену Буденному, на побережье оставались еще много групп бойцов, уже отрезанных от наших войск и были намерения их спасти.
ТЕЛЕГРАММА ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ФРОНТА МАРШАЛУ С. БУДЕННОМУ ОБ ЭВАКУАЦИИ БОЙЦОВ И КОМАНДИРОВ ИЗ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РАЙОНА (СОР), 4 июля 1942 г.
«На побережье СОР есть еще много отдельных групп бойцов и командиров, продолжающих оказывать сопротивление врагу. Необходимо принять все меры для их эвакуации, посылая для этой цели мелкие суда и морские самолеты. Мотивировка моряков и летчиков невозможности подхода к берегу из-за волны неверна. Можно подобрать людей, не подходя к берегу, а принимая их на борт в 500-1000 м от берега. Прошу приказать не прекращать эвакуации и сделать все возможное для вывоза героев Севастополя».
Издал ли Буденный в ответ на эту просьбу приказ и удалось ли спасти кого-нибудь, неизвестно. После войны об этой трагедии почти не писали, замалчивали, и только в перестроечные года эти события стали известны, о них много писали и даже был снят художественный фильм. По отечественным данным безвозвратные потери войск СОР с 30 октября 1941 по 4 июля 1942 года составили более 156 тыс. человек (убитыми, пленными и пропавшими без вести).
Среди пленных оказался и Лев Рутенштейн. Он был в одном подразделении с азербайджанцами, которые в плену держались вместе и, фактически, они спасли ему жизнь. Хорошо известно, что попавшие в плен советские солдаты, особенно в первые годы войны, направлялись в различные концентрационные лагеря, их использовали на тяжелых работах, они умирали от истощения, холода, голода от болезней, но у них все же был шанс выжить. Никаких шансов не было только у коммунистов и евреев. Попал бы в газовую камеру или был бы расстрелян и Лев, если бы не его внешнее сходство с азербайджанцами. Он не выделялся от окружающих его однополчан, и они единогласно подтверждали немцам на допросах и лагерных построениях, что он один из них. Немцы не особенно разбирались в этническом многообразии национальностей, проживающих в СССР, но для выявления евреев у них был простой и надёжный способ: приказывали спустить штаны и показать половой орган, и если было видно, что пленному в детстве делалось обрезание, то это обозначало, что он, без всяких сомнений, еврей. Но точно такой же религиозный обряд делали всем новорожденным детям верующих мусульман, в том числе и азербайджанцам. При очередной проверке Лев и его друзья предъявили немцам свои мужские органы, которые у всех имели абсолютно одинаковый внешний вид. Лев остался жить. Эту историю мой дядя Лева рассказал мне много лет спустя лично, но без особых подробностей.
Так сложилось, что мы, живя в Ленинграде, виделись нечасто и разговаривали мало, а о войнах, финской и Отечественной, он вообще ничего не рассказывал. На все вопросы лишь махал рукой, отворачивался, вставлял в мундштук сигарету и закуривал. Где он был в плену и когда был освобожден, точно не знаю, но Борис в своих воспоминания писал, что со Львом, а он был ему двоюродным братом, они общались чаще, тем более, что Борис тоже был фронтовиком, и он рассказывал ему, что после освобождения из плена его отправили в штурмовую роту, а это было в то время еще хуже штрафной, куда попадали по суду чаще всего. Их бросали для прорыва немецкой обороны, и после штурма немногие оставались в живых. Льва спасли его руки, он стал оружейным «доктором», ремонтировал оружие. Особенно часто отказывали в бою автоматы и пулеметы, а любой сбой в стрельбе или заклинивание затвора в автоматическом оружии был равносилен смерти. Ему раздобыли инструменты, небольшие тиски, и он по ночам занимался ремонтом оружия, что спасало жизнь не только ему, но и его товарищам, и они за это его ценили и уважали.
Судя по фотографии, где Лев изображен с сержантскими погонами на плечах, которые ввели в армии в 1943 году, он не только чинил оружие, но успевал еще и воевать. Не знаю в каком качестве, но на фотографии он выглядит очень лихо, прямо еврейский Василий Теркин.
26. Холокост в Одессе — румынский вариант
Почему в первый день оккупации в Одессу вошли именно румынские части, хотя советские войска и сами одесситы, в течении 73 дней героически державшие оборону, сражались не только с румынами, но и с большим количеством немецких частей, несравненно более подготовленных и боеспособных, по сравнению с их союзниками-румынами? Чтобы ответить на это вопрос, надо вернуться на несколько лет назад.
В начале 1940-х вся полнота власти в Румынии перешла кондукэторулу (вождю) государства маршалу Иону Антонеску. Взлету популярности генерала Иона Антонеску способствовала передача Румынией Бессарабии и Северной Буковины Советскому Союзу, что было сделано королем Каролем II под угрозой применения военной силы советской стороной. Потеря исконно румынских земель серьезно пошатнуло авторитет короля и привела к жесткому противостоянию с румынскими националистами. Эта ситуация вынудила монарха поручить генералу Антонеску, который пользовался большим уважением в стране, формирование нового правительства. Пользуясь поддержкой нацистской Германии, генерал по предложению основных политических партий вынудил короля отречься от престола.
Ему на смену пришел 19-летний сын Михай I, однако реальная власть оказалась в руках Антонеску, который объявил себя вождем государства. Антонеску предпринимал усилия по укреплению союза с Германией, но Адольф Гитлер и сам был заинтересован в сотрудничестве с Румынией, в первую очередь в нефтяном секторе. В ноябре 1940-го года Антонеску прибыл в Берлин, где состоялось подписание документа о присоединении Румынии к Пакту трех держав — договору Германии, Италии и Японии о разграничении сфер влияния, а уже в январе 1941-го на встрече генерала с Гитлером были обсуждены и согласованы детали предстоящего нападения на СССР с участием румынских войск.
Вероятно, именно на этой встрече Гитлер и подтвердил Антонеску, что «бонусом» за участие Румынии в войне против СССР будет возврат ей территории Молдавии и Бессарабии, лежащей между Днестром и Бугом, которая была названа Транснистрией, т.е. «заднестровьем», а столицей этой румынской провинции должна была стать Одесса. Надо уточнить, что в последствии, сразу же после начала войны Румыния захватила или, как она считала, вернула и формально включила в состав своего государства только Бессарабию и Буковину, а на Транснистрию Румыния получила от немцев мандат только на управление и экономическую эксплуатацию.
Вернемся в Одессу 16 октября.
Колонна машин и румынская пехота двигались по опустевшим улицам, город замер в ожидании. На следующий день одесситы проснулись в совершенно другой Одессе, еще не зная, кому какая судьба предопределена.
Где были и что чувствовали мои четверо родственников в тот вечер 16 октября? Наверное, как и все одесситы собрались в одной комнате, замерев в тревожном ожидании, онемевшие от волнения и страха, который накатывался на их сознания и заполнял души. Думаю, что более других был подавлен и терзался сомнениями мой дед, Марк Абрамович Рутенштейн.
Примерно, за месяц-полтора до этого вечера, он, возможно, впервые в жизни принял вопреки мнению и просьбам окружавших его близких людей самостоятельное решение — отказался от эвакуации из Одессы, хотя билеты на корабль, практически, лежали на столе. У него в голове и в памяти, как и у многих других «мудрых» евреев, отложилось, что немцы - культурная нация и что при них можно будет нормально жить, и в Тобольск уезжать не придется. «Софочка, успокойся, я знаю, что говорю, я же жил в Швейцарии и Германии и помню немцев, это же культурная нация. А вспомни 18-й год, когда немцы были в Одессе, при них я работал и неплохо». Так или почти так дед отвечал, когда Сока уговаривала его эвакуироваться.
Что это было? Ну, то, что не все пожилые евреи — «мудрые», это и так понятно, по себе знаю. Не был дед, конечно, и антисоветчиком, с нетерпением ожидавшим прихода фашистов. К сожалению, объяснение до обидного простое — он просто ничего не знал или не верил сообщениям о том, что происходило в Германии с евреями после прихода к власти Гитлера, а потом в Польше, а потом в Бессарабии. Эвакуированные оттуда евреи уже заполонили Одессу и брали штурмом поезда и пароходы, понимая, что нужно во что бы то ни стало бежать. Они уже видели, что с евреями делали гитлеровцы, а советские газеты почти ничего об этом не писали. В то, что свои же русские или украинские соседи, опьяненные водкой и ненавистью, могут убивать евреев, в это он верил и хорошо помнил о погромах 1905 года в Одессе. Но в то, что вежливо-надменные, образованные, выдержанные немцы, всегда с терпимостью относившиеся к иммигрантам и иноверцам, могут расстреливать и сжигать евреев заживо, в это он поверить категорически не мог.
Уверен, что его Софочка своим женским чутьём чувствовала надвигающуюся опасность, что, конечно, надо уезжать, но, возможно, впервые не стала с ним спорить и настаивать на своем, хотя умела это делать очень хорошо, решила в этот раз довериться мужу. Может быть, в августе, когда встал вопрос об эвакуации, у неё оставались еще надежды, что весь это ужас скоро кончится, и немцам войти в Одессу не дадут, в чем дружно уверяли одесситов газеты и радио почти до самого последнего дня. Сохранилась одна единственная открытка, которую она отправила 13-го августа моей маме в Ленинград. Писала её, еще, наверное, не зная, что именно в тот день,13 августа 1941 года, из Одессы на восток ушёл последний поезд, и что немецко-румынские войска перерезали линию железной дороги, вышли к Чёрному морю и полностью блокировали Одессу с суши.
13 августа
«Дорогая Нона! Вчера получили твою телегр.(амму) от 25-го (июля) очень опечалились о Лёвушке и Изи. У нас все живы и здоровы, живем в подвальном этаже. Папа работает, Манюшка нет. Пока нам денег не надо. Тамара уехала с родными не знаем куда. Я тебе писала уже несколько писем и телеграмм. Пишу ча сто, но ведь теперь письма идут долго. Что слышно у дяди, как тетя и Боба. Надеюсь, что скоро все кончится, мы уничтожим гадину Гитлера и увидимся. Я с тобой моя дорогая доченька. Мама, целую крепко. Маргарита и все наши целуют. Напиши где Лёва и Изя».
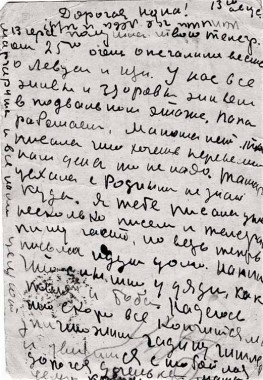  |
На штемпеле, поставленном в Одессе на почте, которая, как ни странно еще действовала в эти дни, дата отправки указана 14 августа (1941 года), а на штемпеле, поставленном на почте в Ленинграде, стоит дата 29 ноября 1945 года. Открытка шла долго, всю войну, но не потерялась, её не выбросили, хранили и вручили адресату, когда война уже закончилась, и мама уже знала о судьбе её родителей и близких.
Но Софья Борисовна не ошиблась — «гадина Гитлер» был уничтожен.
Думаю, что гораздо реальнее оценивала события и понимала, что надо уезжать, только Манюшка, понимала и то, что ждет её при фашистах с её партийным билетом в кармане. Осталась, чтобы быть рядом с родными. Как себя чувствовала и как жила во все дни обороны Одессы Маргариточка – Тикама, можно только гадать. Конечно, родные пытались успокаивать её, отвлекали, пытались скрывать реальные события, происходящие на линии обороны Одессы. Но бомбежки и обстрелы не скроешь. Думаю, что бывала она и в городе, ходила, наверное, с Сокой на базар, на Приморский бульвар, который был рядом с домом, видела разрушения, воронки от снарядов, заграждения и баррикады, которые появлялись на улицах. Я уверен, что вела она и дневник, так же, как делала это в Ленинграде, записывая каждый день, в том числе и то, как она жила и о чем думала, что видела вокруг в те последние недели, после прихода в Одессу румын.
Спустя всего лишь месяц, в декабре 1941 года, другая девочка, сверстница Маргариточки, начала вести дневник в блокадном Ленинграде, её звали Таня Савичева. Записей было мало, они заняли всего 9 страничек, на каждой из них Таня записывала всего по одной фразе: кто и когда из её родственников умер. Последняя запись гласила: «Умерли все». Таню, полуживую от истощения вывезли весной 1942 года на Большую землю, но её здоровье было подорвано безвозвратно и 1 июля она умерла. Её дневник сохранился и его странички можно увидеть в музее блокады Ленинграда.
Ровно через год, в июне 1942 года начнет вести дневник еще одна девочка, на два года старше Маргариты, её звали Анна Франк. Её семья бежала из Германии в Нидерланды в 1933 году сразу же после прихода к власти Гитлера, когда Анне было только 4 года. Она жила в Амстердаме вместе со своей старшей сестрой, там же пошла в школу, выучила нидерландский язык. Но в 1940 году Германия оккупировала Нидерланды и начала, как и в остальных оккупированных европейских странах, вести охоту на евреев, арестовывая и отправляя их в концлагеря. Бежать из Нидерландов было уже поздно и, чтобы избежать концлагеря, отец Анны с помощью своих друзей по фирме, где он работал, оборудовал надежное убежище, которое располагалось в промежутке между двух зданий, принадлежавших этой фирме, а вход в это помещение закрыли книжным шкафом. Вся семья Анны переехала в это убежище шестого июля 1942 года и пробыла там до первого августа 1944 года. Вот, одна из первых записей Анны в дневнике от 1 9 ноября 1942 года:
«По вечерам всюду снуют зеленые или серые военные машины. Из них выходят полицейские, они звонят во все дома и спрашивают, нет ли там евреев. И если находят кого-то, то забирают всю семью. Никому не удаётся обойти судьбу, если не скрыться вовремя. Часто по вечерам в темноте я вижу, как идут колонны ни в чем не повинных людей, подгоняемых парой негодяев, которые бьют и мучат, пока те не падают на землю. Никого не щадят: старики, дети, младенцы, больные, беременные — все идут навстречу смерти».
Точно такую же запись могла бы, наверное, сделать в своем дневнике и Тикама, но только за год до этого.
Семья Франк скрывалась в убежище до первого августа 1944 года, пока какой-то осведомитель, фамилию которого так и не удалось выяснить до настоящего времени, не выдал их расположение немцам. Вся семья была арестована и отправлена в лагерь Вестер-борк, а затем в Освенцим. Анна Франк умерла от тифа в феврале 1945 года, не дожив до освобождения Освенцима Советской армией в январе, всего несколько недель. К этому моменту в живых остался только её отец.
Когда он вернулся в Амстердам его друзья передали ему сохраненный ими дневник Анны, который она, возможно, специально, оставила в убежище. Дневник был издан в 1947 году и был переведен на сотни языков, стал известен во всем мире, по нему сняты фильмы и поставлены спектакли. Илья Эренбург в своем предисловии к русскому изданию дневника, который был назван Анной «Убежище», написал: «За шесть миллионов говорит один голос — не мудреца, не поэта — обыкновенной девочки…. Дневник девочки превратился и в человеческий документ большой значимости, и в обвинительный акт».
Незадолго до своей смерти Анна писала: «После каждой войны всегда говорят: это никогда больше не повторится, война – такой ужас, любой ценой нужно избежать её повторение. И вот люди снова воюют друг с другом, и никогда не бывает иначе. Пока люди живут и дышат, они должны постоянно ссориться, и, как только наступает мир, они опять ищут ссоры».
Возможно, что вечером 16-го октября 1941 года Тикама записала бы в своем дневнике: «Сегодня в Одессу вошли румынские солдаты, что будет завтра я не знаю, мне страшно, но я уверена, что приедет мой братик и спасет меня».
Многое о событиях первых дней, недель и лет оккупации Одессы написано в книгах и публикациях, авторами которых были журналисты, которые не только пережили эти годы, находясь в Одессе, но и работали в издававшихся там газетах, являясь, фактически, коллаборационистами. Поэтому, их воспоминания имеют часто откровенно одностороннюю окраску, мешающую оценивать их объективно, но пройти мимо них тоже нельзя, т.к. события, о которых они там пишут имели место быть, и их слова, как говорится, из песни не выкинешь, тем более, что в советских источниках, изданных уже после войны, о них не упоминается ничего, либо крайне мало. Справедливости ради надо сказать, что в своих воспоминаниях о зверствах румын и немцев по отношению к мирному населению и прежде всего к евреям, пишут они однозначно с возмущением. Насколько это было искренне, остается на их совести.
Из книги М.Д. Мануйлова «Одесса в период Второй мировой войны, 1941-1944». Михаил Дмитриевич Мануйлов учился в Новороссийском университете в Одессе, до войны служил по финансово-экономической части, был «директором планово-экономического отдела» в какой-то организации. Советскую власть люто ненавидел, что очевидно с первых же страниц его мемуаров. По словам Мануйлова, его отец «был расстрелян на Украине украинцем Колесниченко». Мануйлов принадлежал к тому поколению, которое помнило прежнюю жизнь, и знало жизнь новую, которую он воспринимал крайне негативно. Хотя внешне, конечно, никак это не проявлял. Это был, по-видимому, типичный «внутренний эмигрант». Войну он рассматривал как шанс покончить с коммунистическим режимом. Как и некоторые другие «внутренние эмигранты», он считал, что оккупация будет явлением преходящим. Мануйлов, дабы избежать мобилизации, обзавелся направлением на освидетельствование как потерявший трудоспособность в связи с заболеванием сердца.
По его словам, в Одессе «явное большинство мужчин всякими способами уклонялось от мобилизации… Нужно поблагодарить наших добрых врачей, они спасли много жизней, выдавая разные фиктивные удостоверения». Об этом же применительно к Киеву вспоминал известный врач-рентгенолог и шахматист, призер чемпионатов СССР Ф.П. Богатырчук: «У нас прибавилась еще одна проблема, как спасти себя от принудительной эвакуации вглубь СССР. К чести киевских врачей должен указать, что они помогли всем желающим остаться, как могли, выдавая справки».
Вот такой человек шел по улицам полупустынной Одессы, наблюдая за происходящим вокруг.
«Со всех сторон города начали появляться грузовики — большие и малые, наполненные румынскими солдатами. К некоторым грузовикам были прицеплены маленькие пушки. А внутри грузовиков в отдельных случаях видны были пулеметы. Войска, не встретив сопротивления и провожаемые приветствиями, въезжали в город свободно, без военной подготовки. Я встретил первую часть неподалеку от дома, на Соборной площади, где собралась маленькая группа горожан.
По Преображенской улице, со стороны Николаевской дороги, на открытых машинах въезжала немецкая группа офицеров. Поравнявшись с нами, в ответ на приветствие жестом руки одной из присутствовавших дам, немецкий офицер взял под козырек и сказал на ломаном русском языке: «Здравствуйте». Дамочка была вне себя от удовольствия и, очевидно, рассказывая об этом случае, создавала молву о симпатичных немцах, встретившихся ей.
Процедура «занятия» города длилась недолго и, как видно, по заранее разработанному плану отдельные воинские части (20-30 человек) начали располагаться в разных частях города, занимая свободные помещения для постоя. Население очень быстро вступило в общение с солдатами. Румыны держали себя просто и без достоинства; немцы держались гордо и с достоинством. Румыны, очевидно, плохо довольствовались и не отказывались от куска хлеба, предложенного гостеприимной русской женщиной, но их особенно прельщал сахар, который они тут же поедали. В это время никаких враждебных актов не было проявлено ни с одной, ни с другой стороны. Через несколько часов от дома к дому стало распространяться сообщение, что на Соборной площади состоится молебен, организованный самим населением. Весть о предстоящем всенародном молении с быстротой молнии разнеслась по всему городу, и вскоре большая Соборная площадь была заполнена народом».
Каких бы не был Мануйлов убеждений, но про «теплую» встречу, которая была оказана частью одесситов оккупантам, он не выдумал. Кто входил в эту «часть одесситов» и как много их было? С момента революции прошло менее 25 лет, и одни одесситы еще не забыли былую устроенную и комфортную жизнь, которую у них отобрали большевики заодно с деньгам, барскими квартирами и дачами в Люстдорфе, другие не забыли, что потеряли адвокатскую или медицинскую практику, третьи таили глухую злобу и ненависть за расстрелянных или пропавших в подвалах ЧК и НКВД родственников и близких, а четвертые — небогатый торговый и базарный люд с неистребимой коммерческой жилкой — с тоской вспоминали времена, когда они имели возможность делать свой небольшой «гешефт»: что-то, где-то купить, а потом это с небольшой выгодой продать, получить удовольствие от общения с покупателем, и за это полиция их не хватала за шиворот и не тащила в кутузку. В общем, недовольных хватало, но вряд ли они ждали с нетерпением именно фашистов, просто, как они потом объясняли «не было другого варианта», и многие совершенно сознательно остались в Одессе.
О том, что немалое количество одесситов не желало эвакуироваться, в интервью сотрудникам Комиссии по истории Великой Отечественной войны, говорили вполне по-советски настроенные люди. Олег Будницкий в своей книге пишет, что профессор математики Одесского университета Н. Васильев утверждал, что «среди профессоров были такие, которые всячески уклонялись от эвакуации вплоть до того, что под всякими предлогами отказывались от выезда. Ссылались на то, что здоровье не позволяет, на то, что не могут вывезти всего состава своих родственников и т. д. Были и такие, которые, не имея больше возможности наводить тень на плетень, отправлялись, а потом возвращались».
Вернемся в Одессу, когда в середине дня на её улицах появились румынские части. О том, что происходило в первые дни и недели оккупации написал также в своих воспоминания Ян Петерле.
«В Одессу вошли «победители». Действительно, количественно преобладали довольно бедно и грязно одетые румынские солдаты, но распоряжались сначала немцы, резко отличавшиеся своей муштрой. Как всегда, по-видимому, бывает при переходе власти, темные элементы, пользуясь моментом, грабили магазины, опустевшие квартиры, хулиганили, доносили, «помогали завоевателям». В течение нескольких недель держался жесточайший режим. Каждое распоряжение военных властей было составлено в громовом стиле с перечислением наказаний — и смертная казнь на первом месте.
В первые же дни было схвачено много заложников, и они умерщвлялись за самое незначительное нарушение изданных приказов. Схватывали подозрительных и вешали их на столбах или балконах. По домам забирали мужчин и тащили их колоннами в подозрительные места за город, где предполагались заминированные большевиками участки. Там гнали эти колонны через участки, чтобы вызвать взрывы. Группы евреев были загнаны на Среднем Фонтане к берегу моря и расстреливались пулеметным огнем».
Это воспоминание написано тоже очевидцем тех событий, но написано явно отстраненно, со взглядом как бы стороннего наблюдателя, понимающего, что не он является объектом этой адской охоты оккупантов.
А вот что записал в своих воспоминаниях «Годы бедствий» Рубин Вудлер, еврейский подросток.
«Утро 16 октября оказалось непривычно тихим. Было трудно понять, что происходит. Накануне ведь улица была запружена толпой! Мы не уходили из подъезда, о чем-то толковали, время от времени кто-то из нас выглядывал на улицу. Сгрудившись у приоткрытой калитки, мы увидели, что со стороны вокзала под самой стенкой домов по одному, на расстоянии примерно 6 м друг от друга, медленно и осторожно продвигаются заросшие солдаты в грязной странной форме. Мы плотно закрыли ворота и разбежались по квартирам. Всей семьей мы опасливо из-за штор стали наблюдать за происходящим на улице. По форме мы узнали румын. Лица были строгие, глаза их выражали сосредоточенное напряжение. Винтовки держали наготове. Мы не могли оторваться от окон. Что нас ждет? Как они отнесутся к нам? Наконец, к вечеру это шествие закончилось. Улица снова опустела.
Заняв весь город и убедившись в том, что регулярных советских войск в городе нет, захватчики осмелели и предались бесчинствам. Они поверили в то, что они победители, имеют право творить, что хотят.
Террор начался с первых же часов. Группами и в одиночку они врывались в квартиры якобы в поисках скрывающихся советских солдат, коммунистов и евреев. Удары прикладами и зверское избиение всех, независимо от возраста и пола, сопровождались угрозами немедленной казни. В карманы и ранцы запихивалось спешно все, что видели их алчные глаза. Особым спросом пользовались часы, браслеты, кольца серьги, деньги. И тут же, будто кто-то их подгонял, они вторгались в соседние квартиры, где повторялись их мерзкие действия. Окрики возбужденных жадностью и вседозволенностью румынских солдат и вопли насмерть перепуганных людей, совсем не понимавших румынскую речь, заполняли весь дом, всю улицу. Осатаневшие солдаты гнались за молодыми женщинами, насиловали их группами, часто на глазах окаменевших от ужаса членов семьи».
Из этих воспоминаний, написанных, очевидно, не прямо по следам событий, а позже, когда детали и мелочи уже были забыты, может сложиться впечатление, что репрессии, аресты и убийства населения были спонтанными, заранее неорганизованными и, если бы люди строго исполняли приказы, то жертв было бы меньше. То, что это совершенно не так, видно из тех приказов и распоряжений, которые были изданы буквально в первые же несколько дней оккупации, из которых видно, что они готовились заранее. Места сбора евреев, адреса гетто, пути следования и районы города и пригородов, где планировались расстрелы и захоронения, были предварительно определены и, скорее всего, с помощью добровольных и заинтересованных помощников.
Уже 18 октября, через два дня после появления румын в Одессе была издана «Инструкция по организации, отбору и эвакуации евреев Одессы в гетто». В инструкции, в частности, говорилось:
«Во исполнение приказа создается временный лагерь-гетто для евреев города Одессы. Помещением созданного преториальной службой гетто является, начиная с 16 часов 18 октября 1941 г., тюрьма Одессы на улице Фонтанская дорога. Зона размещения евреев расширяется от этой улицы до моря — участок к западу от шоссе Фонтанская дорога, квадрат 5-8 плана города Одесса, участок полковника Павла Алексю. Все евреи, независимо от пола и возраста, будут эвакуированы по участкам вместе с семьями. Дети, женщины, мужчины, которые, покидая жилище, могут взять с собой строго необходимое для питания и сна. Не берется мебель».
Перед помещением в тюрьму арестованных евреев, невзирая на запрещение грабежей и пыток, подвергали унижениям, издевательствам, доводили до крайнего изнеможения. Колонны евреев в окружении вооруженных солдат без отдыха и пищи перегоняли с места на место, часами держали на ногах, а пытавшихся бежать расстреливали.
 |
Один из тех, кто в первые же дни оккупации попал в жернова этой адской смертельной мельницы, был Иосиф Каплер, выживший и написавший потом воспоминания «Записки узника гетто», которые цитируются во многих книгах и расследованиях о Холокосте в Одессе. Буквально через два дня после появления румын он в числе многих был вытащен из дома и в колонне с остальными одесситами, среди которых были не только евреи, отправлен на разминирование улиц.
 |
«На площади между Слободкой и городом всех выстроили на улице. На тротуарах стояли женщины, чтобы передать что-нибудь поесть своим близким, но часовые никого не допускают. Команда идти вперед. Длинной вереницей, военным строем ведут к Слободке-Романовке. На площади между Слободкой и городом всех выстроили, как на параде. Команда офицера: немцам выйти из строя. Вышли немцы, и их отправили домой. Остальных выстроили снова и отправили сомкнутым строем искать мины, заложенные на улицах перед уходом из Одессы. Заставляли быстро двигаться, а часто пускали колонну бегом.
Я не молод — астма, сердце. Задыхался, чувствовал, вот-вот упаду. Но отстающих и падающих убивают, поэтому пересиливаю себя и бегу дальше. За психиатрической больницей, у пригородного села устроили небольшой привал, но быстро погнали обратно в город. По дороге врача, который был среди нас, охранники раздели, и он бежал в одном белье, и они над ним смеялись. Было уже темно, а нас все гнали, и мы, задыхаясь, бежали и обязаны были под угрозой смерти еще топать ногами — авось попадем на мины. Стало холодно, нас усадили на Галовковской улице напротив завода ночевать. Раздетый и босой врач дрожал и плакал. Только стало светать нас снова погнали по минам. Бесконечный бег до обеда, вчерашний день прошел без воды и еды. Вечером пригнали в разрушенную школу».
Первый массовый расстрел евреев был проведен уже 17 октября. В этот день в порту было убито 4 тысячи евреев, а 19 октября было объявлено уже о начале поголовной «регистрации мужского населения», и к военнопленным начали добавляться многие тысячи мирных жителей, большинство из которых были евреями. Всех их заперли в девяти пустых пороховых складах и в течение нескольких дней, начиная с 19 октября, расстреляли. В «Известиях» от 14 июня 1944 года был напечатан рассказ свидетельницы об одном из самых массовых и зверских убийствах одесских евреев:
«19 октября 1941 года в помещении пороховых складов, расположенных по Люстдорфскому шоссе, возле моего дома… румыны начали тысячами сгонять арестованных мирных жителей — мужчин, женщин и детей. Когда они заполнили советскими людьми девять пустых складских помещений, тогда стали подкатывать к складам бочки с горючим. Я лично видела, как румыны насосами качали горючее из этих бочек и через шланги поливали склады, в которых находились согнанные ими жители города. Когда пороховые склады были облиты горючим, румынские солдаты их подожгли. Поднялся страшный крик. Женщины и дети, объятые пламенем, кричали: «Спасите нас, не убивайте, не сжигайте!» Подожженные румынами склады продолжали гореть несколько дней. Когда пожар прекратился, румыны к месту пожара пригнали жителей города, которые выкопали большие ямы длиной метров 100, шириной 5-6 м и глубиной 3 м каждый. Потом появились румынские солдаты, которые стаскивали обгоревшие трупы в эти открытые ямы и закапывали».
После освобождения Одессы в этих ямах было обнаружено примерно 28 тыс. трупов.
Мануйлов в эти дни записал в своем дневнике:
«Шестой день оккупации принес и ряд других печальных неожиданностей. Около семи вечера, когда перепуганные одесситы прятались в своих квартирах, город весь задрожал от страшного взрыва. Взрыв был настолько силен, что создавалось впечатление, что дом затрясся. Трудно было понять в первые минуты, что произошло, но все рисовали себе картину чего-то страшного. Через некоторое время выяснилось, что взрыв произошел на улице им. Маразли в здании бывшей комендатуры НКВД. Оказалось, что непредусмотрительные оккупанты расположили свой штаб в этом страшном здании, а большевики, при оставлении его, заложили мину с механизмом замедленного действия. В условленный час мина взорвалась».
22 октября 1941 года в здании НКВД на ул. Маразлиевской, в котором по занятии города расположились румынская военная комендатура и штаб румынской 10-й пехотной дивизии, проходило большое совещание румынских и немецких военных. Здание взлетело на воздух вечером в результате взрыва нескольких тонн взрывчатки, заложенной туда сапёрами Красной армии ещё до сдачи города советскими войсками. В результате здание частично обрушилось. Под обломками пострадало 135 человек, из которых 79 были убиты, в том числе 16 офицеров, среди которых был румынский комендант города генерал Ион Глогожану. Ответственность за взрыв была возложена на евреев и коммунистов. Буквально на следующий день было объявлено, что в одной из квартир соседнего дома, где проживала еврейская семья, был обнаружен телефон и провода связи, через которые был дан сигнал на взрыв, хотя в советских источниках позднее утверждалось, что в подвале был установлен радиоуправляемый взрыватель.
Сейчас трудно предположить или утверждать, что расстрелы и зверские убийства гражданского населения Одессы и, в первую очередь, евреев в первые три дня оккупации, были только актом устрашения и подавления человеческой психики, и дальнейшего продолжения массовых убийств не планировались. Возможно, так оно и было, по крайне мере, в распоряжениях румынской комендатуры и в прямых приказах Антонеску, упор делался на полное выдворение евреев из Одессы, переселение их в гетто и отдаленные сельские районы. Так оно потом и происходило, причем по дороге, от голода, холода, а также от рук «активного» местного населения, особенно немецких колонистов, погибли десятки тысяч человек.
Но взрыв комендатуры и штаба румынских войск послужил спусковым крючком для настоящей безумной кровавой вакханалии по истреблению евреев и не только евреев, всех, кто попадался первым под руку. В ответ на взрыв комендатуры и штаба румынских войск прибывшая на следующий же день немецкая айнзатцгруппа провела акцию по уничтожению около 10 тыс. заложников. По всей улице Маразлиевской оккупанты врывались в квартиры одесситов и всех найденных там жителей без исключений расстреливали или вешали. Производились облавы на улицах и рынках города, людей, ничего ещё не знавших о теракте, расстреливали прямо на месте, у стен домов или заборов.
Самое страшное зрелище представлял собой Александровский проспект — на нём было повешено около четырёхсот горожан. Вешали на уличных фонарях, на ветвях платанов, на балконах, но потом вешать евреев прекратили, т.к. уже было негде, а кроме того, как писали в своих рапортах румынские жандармы, «исполнители теряли психологическую устойчивость из-за вида конвульсий и лиловых языков, вываливающихся изо рта повешенных».
 |
Колонны заложников гнали на Люстдорфскую дорогу к артиллерийским складам, где их расстреливали или сжигали заживо. Массовые расстрелы продолжились и 24 октября в поселке Дальник, где было собрано около 5000 человек. Часть была расстреляна около противотанкового рва, а остальные евреи для ускорения процесса уничтожения были согнаны в четыре барака, в которых были проделаны отверстия для пулеметов, а пол предварительно залит бензином. Люди в двух бараках были расстреляны из пулемётов в тот же день, а бараки были подожжены. На следующий день были расстреляны остальные, помещённые в оставшихся двух бараках, причём один из бараков был заброшен гранатами. Разбирать руины бараков и закапывать останки людей, изуродованных огнем и взрывами, пригнали евреев из ближайшей тюрьмы, среди которых был и Иосиф Каплер, описавший этот день в последствии в своих воспоминаниях:
«Нас был 120 человек, шли строем с лопатами на плечах, пулеметчик следовал за нами. На тротуарах валялись трупы. Останавливались, копали ямы, бросали туда убитых, закапывали и шли дальше… Пришли к артиллерийским складам. Вошли за колючую проволоку. От корпусов остались лишь прокопченные стены, потолков и дверей уже не было. Возле зданий валялись куски человеческих тел, трупы без голов, без ног, без рук. Одежда на них частично сгорела. Из помещений складов — удушливый дым с одуряющей вонью обуглившихся человеческих тел. Между двумя корпусами нас остановили. Мы стояли не двигаясь. Со всех стороны эсэсы и румыны с пулеметами. Мы ждали приказа рыть себе яму. Немецкий офицер прокричал на ломанном украинском языке: «Большевики перед уходом из Одессы расстреляли здесь много тысяч немцев, румын и евреев. Немцев и румын мы похоронили сами, а евреев должны похоронить вы… Перенесите разбросанные тела в одну яму. Накопайте земли и засыпьте трупы, находящиеся в складах, но так, чтобы их видно не было! Немедленно приступить к работе!» Из кусков досок соорудили носилки. Яма была вместительной, но уже через два часа она была переполнена, пришлось рыть новую. Вот и новая переполнена. Приказали ямы засыпать землей, а остаток трупов перенести в склады и засыпать. Я переносил трупы носилками, задыхаясь от смрада, сердце колотилось».
Уже после войны, правительственная комиссия, расследовавшая уничтожение гражданского населения румынскими и немецкими войсками, определила, что в общей сложности после взрыва комендатуры было уничтожено около 50 тыс. одесситов, подавляющее большинство которых были евреями.
Предполагали ли организаторы взрыва подобные последствия, когда за каждого убитого во время взрыва военного было зверски убито около 200 невинных гражданских людей? Скорей всего, об этом не думали. Или, напротив, предполагали?
Такую мысль высказал и обосновал Яков Верховский, подростком переживший оккупацию Одессы, в своей книге «Город Антонеску», читать которую трудно и страшно. Уже после войны стало известно, что приказ о минировании Дома на Маразлиевской принял к исполнению генерал-полковник инженерных войск Аркадий Хренов, который в октябре 41 года руководил взрывами стратегических объектов в Одессе и одесской области. Три тонны тола, две стокилограммовые бомбы, несколько мин с не извлекаемыми взрывателями, детонатор и специальный радиоприемник были спрятаны в подвале под большой грудой мебели и другого старого барахла, сохранившегося еще с дореволюционных времен от бывших владельцев дома и покрытого толстым слоем пыли и паутины. Для создания видимости заброшенности подвала слой пыли и паутины сначала осторожно сняли, а после минирования вернули обратно. Кроме того, в коридорах, ведущих в подвал, установили дополнительные мины из расчета, чтобы немецкие саперы смогли бы их обнаружить, обезвредить и на этом прекратить дальнейшие поиски. Именно так все и произошло. Радиосигнал на срабатывание детонатора был передан из Севастополя именно 22 октября в 17-45 вечера, когда было должно начаться собрание румынских и немецких старших офицеров. Точную дату собрания удалось выяснить группе партизан под командованием капитана Владимира Молодцова, они же и передали в эфир фразу «Концерт на Маразлиевской начнется в 17-45».
Яков Верховский утверждает в своей книге, что советское руководство и лично Сталин не могли не понимать, что последует после взрыва и на кого, в первую очередь, будет возложена ответственность за гибель румынских и немецких офицеров. Дело в том, что за месяц до взрыва Дома на Марзлиевской в Одессе, 24-го сентября в Киеве взлетели на воздух три здания на Крещатике, в которых расположилась немецкая комендатура, штаб немецкого командования и Дом офицеров, в результате чего погибло несколько сот немцев. Уже 29 сентября началось возмездие — массовое уничтожение жителей Киева в Бабьем яру, в котором за несколько дней было расстреляно около 150 тысяч человек, треть из которых были евреи. Что думал Сталин, давая добро на такой же взрыв в Одессе? Чем он руководствовался? Яков Верховский приводит слова свидетеля тех событий, 15-ти летнего подростка Анатолия Кузнецова, ставшего в последствие известным советским писателем:
«Госбезопасность СССР провоцировала немцев на беспощадность. И немцы знали это». Неужели таким образом, такой дьявольской задумкой Сталин намеривался вызвать ответную волну ненависти советского народа к фашистам? Или и в глубинах его души у него тоже таилась ненависть к евреям, которая и проявилась позже в конце 40-х годов в виде разгрома Антифашистского еврейского комитета и убийства видных еврейских деятелей культуры и науки?
Расстрелы шли и во многих других районах Одессы, документов об этом имеется великое множество. За каждым из них стоят мучения, боль и нечеловеческие страдания ни в чем неповинных людей. Обо всем тут не расскажешь, да я и не ставил такой цели. Просто хотелось представить, что происходило за стенами квартиры, где, оцепенев от страха и ужаса, прятались четверо моих родственников. Они не могли не слышать выстрелы и взрывы за окнами, топота солдатских сапог и криков людей на улице, и не ощущать в воздухе, который проникал в комнаты, дыма, гари и странного сладковатого запаха. В те дни они еще были живы, случайным образом избежав той кровавой мясорубки.
«Решение еврейского вопроса» в Одессе и других районах Транснистрии в его румынском варианте продолжалось, оставшееся в живых еврейское население забыто не было. Уже 11 ноября был издан Приказ маршала Румынии и Главнокомандующего войсками И. Антонеску и гражданского губернатора Транснистрии Г. Алексяну о специальном учете евреев, составлении особых списков, расселении евреев по гетто, колониям и организации их трудовой повинности.
Ян Петерле писал:
«В ноябре было объявлено об устройстве гетто. В связи с этим начались самоубийства, травились, вешались врачи, юристы, педагоги, оставляя краткие трагические записки. Некоторые сходили с ума. Перегоняемые в гетто шли как в траурной процессии, со скарбом, с насиженных гнезд в другие районы, на Слободку, в Дальник. Целыми семьями, с седовласыми старцами, без крика и рыданий шли с торжественными, окаменелыми лицами, шли в неизвестность, на муку, на страдания. Молча плелись маленькие дети, не понимая, что происходит. А затем… затем: часть попала в Дальник, в какие-то амбары, и как-то ночью они были подожжены. Люди пробовали выбрасываться из окон, — их расстреливали, они горели заживо. Количество погибших там не учтено, говорили — много тысяч».
В конце декабря И. Антонеску дал указание окончательно изгнать из Одессы всех евреев. В январе 1942 года от 35 до 40 тыс. оставшихся в Одессе евреев были выселены во временное гетто, организованное в бедном районе Слободка. «В местах их назначения, — отмечается в информационной сводке инспектора жандармерии, — их размещение наталкивается на значительные трудности, так как украинское население отказывалось пускать их в свои дома. Многие из них живут в колхозных конюшнях. Из-за простуды (было отмечено 20 градусов ниже нуля), недостатка пищи, возраста и пр. многие из них падают и замерзают по дороге. Умершие сжигаются в противотанковых рвах. До 22 января было депортировано 12 234 еврея из общего количества в 40 000, которые еще живут в Одессе. Точный подсчет не был произведен, так как много евреев скрывается или спустилось в городские катакомбы. В гетто они были собраны лишь для того, чтобы уже из него быть депортированными далее, в сельские концлагеря».
Об этих событиях писал и Ян Петерле:
«В лютые морозы декабря, а, в особенности, января (1942 г.) евреев стали перевозить в холодных товарных вагонах со станции Одесса-сортировочная в район станции Березовка. Загнанные в вагоны, люди замерзали в пути и их, окоченевших, вынимали потом и складывали в штабели, как шпалы, и зарывали в общих безвестных могилах. К счастью, кое-кому удалось бежать. К чести прочего населения надо сказать, что были мужественные люди и в городе, и в селе, которые помогали уцелевшим. А кара за такую помощь была страшна. Дети от смешанных браков и евреи, перешедшие в христианство, тоже направлялись в гетто: нацисты искореняли «неарийскую» кровь.
Объективность заставляет отметить, что широкие массы населения со стыдом, ужасом и отчаянием переживали эти дни и события, и это в дальнейшем определило их отношение к оккупантам.
Проделав все эти преступления, гитлеровское командование стало в Одессе стушевываться и передавать управление городом румынам, часть которых явно отрицательно относились к подобным «методам» и старались, если не устранить, то смягчить в дальнейшем оккупационный режим».
В один из этих месяцев, скорей всего, еще до начала 1942 года, были найдены и отправлены в один из лагерей мои несчастные родственники, но об этом позже. «Находили» последних евреев, скрывающихся на чердаках и в подвалах домов, с помощью многочисленных доносов добровольных активистов, тысячи которых были обнаружены после освобождения Одессы в документах румынской полиции и администрации города.
К весне 1942 года «еврейский вопрос» в Одессе был практически решен, в июне, уже за ненадобностью, было закрыто последнее гетто. Из, примерно, 100 тыс. евреев, которые оставались в городе к моменту начала оккупации, осталось не более 5 тысяч, но и они постепенно ушли в землю или в дым, и ко дню освобождения Одессы 10 апреля 1944 года их осталось всего несколько сот человек.
Одесситы оправились от душевного смятения и даже определенной неловкости и жалости к исчезнувшим соседям, «воспользовались» оставшимися вещами, не пропадать же добру, заняли их квартиры и начали жить новой, хотя скорее, старой жизнью, которую многие еще не забыли. Румынские планы сделать Одессу столицей Транснистрии стали претворяться в жизнь. Немцы ушли, и румыны, засучив рукава, приступили к строительству новой и счастливой жизни, а одесситы, к своему приятному удивлению почувствовали и оценили это очень быстро.
Румыны настолько были уверены, что они в Транснистрии и Одессе надолго, что уже в 1942 году на экраны вышел фильм, снятый итальянцами совместно с румынами, «Одесса в огне». Мелодраматический сюжет о судьбе румынской певицы кишинёвского оперного театра, разлученной с ребенком и мужем в первые же дни входа советских войск в Бессарабию, присоединенную к СССР, преодолевшей все испытания и опасности, и счастливо воссоединившейся со своей семьёй, в результате разгрома румынами советских войск под Одессой. Фильм заканчивается документальными кадрами входа героических румынских солдат под звуки фанфар в Одессу и водружения румынского флага над одним из куполов православного храма в центре города.
Надо сказать, что тема «зверств и жестокости» красноармейцев в фильме не является главной, а формирование неприязненного отношения к советским оккупантам формируется у зрителя, главным образом, за счет свирепости физиономий актеров, их играющих.
Итальянские кинематографисты большие мастера снимать мелодрамы, особенно, если в них заняты красивые актрисы, много хорошей музыки и в конце все герои остаются живы. Вот, и этот фильм в 1942 году стал призером Венецианского кинофестиваля. Итальянские зрители с восторгом приняли фильм, а при виде последних кадров, когда героиня встречается с мужем, который только что освободил их сына из заточения в одесских катакомбах, у многих на глазах наворачивались слезы умиления.
Также с восторгом, но не со слезами, а с улыбкой и смехом, через несколько лет после войны принимали советские зрители оперетту «Трембита». Действие этой лирической музыкальной комедии происходит в 1945 году рядом с Румынской границей, в небольшом гуцульском городке Западной Украины, вошедшей в состав СССР в 1940 году в соответствии с секретными протоколами пакта «Молотова-Рибентропа», население которой с «энтузиазмом преобразовывает свой край на новых, социалистических» началах, борясь с теми, кто живет воспоминаниями об отжившем свой век в Закарпатье буржуазном прошлом.
Как писала критика тех лет «Такая политическая направленность оперетты сглаживается остроумным и лёгким либретто Владимира Масса и Михаила Червинского.»
Авторы-талантливые и тонко чувствующие художники, не могли не знать, как и с какими жестокостями насаждалась советская власть в этих местах перед войной, но, как сейчас часто говорят, вспоминая те годы: «Не мы были плохими, время было такое»
Не нам их судить.
27. Глава, которой не должно было быть
Когда я задумал написать эти записки, то не предполагал, что буду касаться темы «Одесса и одесситы во время оккупации». Я ничего не знал об этом периоде, дома об этом не говорили, если не считать одной фразы, которую я случайно услышал, когда мама, разговаривая с кем-то по телефону, сказала: «Что ты мне рассказываешь, ты, наверное, не знаешь, что несколько тысяч комсомолок выстроились в очередь, когда румыны объявили в Одессе набор в публичный дом. Не знаешь…, а я вот точно знаю».
Мне было лет 12-13, я тогда не совсем понимал, что такое публичный дом, предполагая, что это библиотека, но фраза мне запомнилась. В печати, книгах и газетах о тех годах писалось очень скупо, в основном про зверства оккупантов или про подвиги партизан, укрывавшихся в одесских катакомбах и наводивших ужас на немцев (почему-то румын почти не упоминали) своими дерзкими вылазками. Школьником не один раз я перечитывал книгу Льва Кассиля и Макса Поляновского «Улица младшего сына» о пионере Володе Дубинине, который в свои 14 лет был членом партизанского отряда, который укрывался в штольнях каменоломен, правда не в Одессе, а в Керчи, а также четвертую часть эпопеи Валентина Катаева «Волны черного моря», в которой подросшие герои первой части — «Белеет парус одинокий» — становятся подпольщиками, скрываются в катакомбах, проводят диверсии и уничтожают оккупантов. Упоминается там и взрыв комендатуры на Маразлиевской улице. Почти ничего о повседневной жизни Одессы в романе не было, кроме того, что один из подпольщиков, Колесничук, стал владельцем магазина, который служил явкой, где происходили встречи подпольщиков и куда приходили карикатурного вида румынские бизнесмены.
«Одесса 1941–1944 годов… Эти годы были самыми трагичными в истории нашего города: несколько месяцев обороны, а затем два с половиной года оккупации. Как жил город в этот период? Как менялся его облик с каждым новым днем, а вернее – ночью, после очередной бомбардировки? Чем занимались простые граждане изо дня в день? Где работали и каким образом добывали продукты, где и как укрывались от налетов вражеских самолетов, чем отапливали свое жилище? Какие взаимоотношения установились между людьми, так давно знакомыми друг с другом, но оказавшимися в новых условиях существования?» С этих вопросов начинается предисловие Лилии Мельниченко, сотрудницы Одесского литературного музея, к воспоминаниям Адриана Оржеховского, жившего в Одессе в годы оккупации, опубликованным в одном из периодических сборников «Дом князя Гагарина», которые выпускаются силами сотрудников этого музея, но, к сожалению, очень небольшими тиражами.
«И если период обороны Одессы нашел свое отражение в советской литературе, будь то художественная или документальная, то годы оккупации города рассматривались в основном с точки зрения партизанского движения. Публикации же о том, как выживали одесситы во время обороны, а затем в оккупированном городе, встречались крайне редко. Причина столь однобокого подхода к отображению истории города в этот период времени хорошо известна – такова была государственная политика. Писать разрешалось только о тех, кто героически сопротивлялся оккупантам, кто уничтожал врага либо активно саботировал его приказы и распоряжения. Но таких были единицы, и они, как правило, получали помощь с «большой земли». А как же все остальное население? Врачи и пациенты, преподаватели и ученики, рабочие и инженеры – в общем, все те, кто не смог эвакуироваться. Им-то никто не помогал, о них никто не заботился. Они должны были в этих экстремальных условиях выживать сами, кто как мог. Причем выживать по правилам, написанным уже новой властью, – оккупационной».
Достоверных данных о действиях «катакомбных» партизан в период оккупации Одессы, подкрепленных документами, я не нашел, кроме статьи профессора С.А. Вольского о действиях партизан под командованием Владимира Молодцова. Когда и где была опубликована эта статья, так же, как и следов научной деятельности профессора, в Интернете обнаружить мне не удалось. Статья написана в «лучших» традициях и стилистики советской пропагандисткой журналистики и публицистики, которые все, в самом деле героические, действия партизан и подпольщиков в тылу врага преподносили исключительно как результат работы обкомов, горкомов и райкомов коммунистической партии, партийных руководителей и сотрудников НКВД.
Кстати, подобный идеологический подход касался и художественной литературы. Александру Фадееву после жесточайшей критики пришлось даже переписать свой роман «Молодая гвардия», чтобы подчеркнуть руководящую роль коммунистов в организации борьбы молодых подпольщиков. Вот и в статье Вольского все подчинено этой же мысли. Но даже не это вызывало мое недоверие к этой статье, хотя приводимые там факты в самом деле имели место, и Владимир Молодцов, и другие подпольщики были безусловно отважными людьми, рисковали своей жизнью, а многие расстались с ней, а то, что многие события, упомянутые в статье либо «отлакированы», либо приукрашены, либо, что еще хуже, замолчаны или изменены. Так, например, Вольский, говоря о десятках тысячах расстрелянных и повешенных в первые же дни оккупации, называет их просто советскими людьми, не упоминая, что 90% из них были евреями. Или называют эвакуацию оборудования и жителей из Одессы тщательно организованной, хотя о фактах беспорядка и коррупции в порту хорошо известно.
Вот, например, что записал в своем дневнике классик украинской литературы, писатель Олесь Гончар 10 октября 1943 года после встречи со своим другом, который находился в Одессе в период её осады немецкими и румынскими войсками: «10 жовтня. Великая Маячка. Учимся…Гриценко рассказывает об октябре 41-м года, как бросали эшелоны с маслом, сахаром, консервами. Как в Одесском порту шофера загоняли машины в море. Как на станции «Западная» железнодорожные батальоны взрывали пути, ложили авиабомбы позади себя на мосты и стреляли по ним из бронепоездов».
Как одно из достижений в деятельности подпольщиков преподносится взрыв комендатуры, но при этом ни одного слова не написано о 28 тысячах одесситов, которые расплатились свой жизнью за этот подвиг партизан. Не упоминается и то, что все диверсионные акты в городе, а они, в основном, сводились к поджогу кафе, ресторанов или магазинов, приводили к взятию и расстрелу заложников, причем погибали при этом уже русские и украинцы, евреев к этому времени уже не осталось. Ничего нет в статье и о жизни одесситов, тех же колхозников и рабочих, которые все 2,5 годах пахали и сеяли, работали и выпускали продукцию на одесских заводах, но утверждается, что якобы при этом они постоянно саботировали указания оккупантов и даже ломали станки и портили продукцию. Возможно, я бы прошел мимо этой публикации и, не располагая больше никакой информацией, заслуживающей доверия, опустил бы в своих записках этот период жизни одесситов, тем более, что к жизни, а вернее, к гибели моих родственников прямого отношения он не имеет — к этому времени их уже не было в живых, — если бы мне не попалась в руки книга «Одесса: жизнь в оккупации. 1941-1944» (История коллаборационизма). а также дневники трех жителей Одессы, переживших в ней все годы оккупации. Я уже цитировал их в предыдущей главе.
В аннотации к этой книге было написано: по словам Александра Верта, автора известной книги «Россия в войне 1941-1945», многие одесситы «чувствовали себя как рыба в воде во внешне беспечной Одессе, какой она была при Антонеску, — с ее ресторанами и «черным рынком», её домами терпимости и игорными притонами, клубами для игры в лото, кабаре и всеми другими атрибутами «европейской культуры», в том числе с оперой, балетом и симфоническими оркестрами. Период оккупации стал для одесситов временем жесточайшего террора. И в то же время это был период свободы предпринимательства, своеобразного неоНЭП’а, резко отличавшего Одессу от других оккупированных городов СССР».
В книгу включены воспоминания об Одессе в период оккупации, извлеченные из Бахметевского архива Колумбийского университета (Нью-Йорк) и эмигрантских изданий.
Прочитав эту книгу, точнее воспоминания очевидцев, проживших весь период оккупации в Одессе и других свидетелей, побывавших в ней в первые дни после её освобождения в апреле 1944 года, я был просто ошеломлен и даже, можно сказать, подавлен. То, что там было написано, никак не укладывалось в моем сознании, ибо полностью противоречило моим представлениям, сформированным еще в школе о том, как «должны были жить наши советские люди в оккупированных городах». Абсолютно беззащитные, т.к. в захваченных гитлеровцами городах, оставались, в основном, только женщины, старики и дети, страдающие от голода, холода и лишений, зарабатывающие миску похлебки на подневольных работах у врага, оказывающие посильную помощь партизанам, презирающие предателей и полицаев, которые пошли на службу фашистам и. конечно, верящими в скорое освобождение и то, что «враг будет разбит и победа будет за нами».
В моих словах нет ни капли иронии, так в большинстве случаев и было. В самом деле, вера в Победу, безусловно, существовала, иначе ленинградцы в блокадном городе не выстояли бы, а под Сталинградом немцы не были бы разбиты. Надо сказать, что вера в Победу для многих советских людей, особенно в первый год войны, никакими реальными аргументами или фактами, вселяющими уверенность в Победе, подкреплена не была. Первые месяцы войны были просто катастрофическими, несколько миллионов красноармейцев оказались сначала в окружении, потом в плену, потери были колоссальные. Многие сотни населенных пунктов были оккупированы, а большая часть из них была превращена в руины. Думаю, эта вера и убежденность в неизбежной Победе была некой защитной реакцией сознания людей на происходящее, а часто была сродни религиозному чувству, которое не подразумевает необходимости доказательств существования всевышнего.
Политическая система СССР не предполагала размышлений, а тем более сомнений, поэтому Вера была составной частью жизни рядового советского человека, которая во время военных испытаний и лишений, тем не менее, помогла выживать и, в конце концов, победить. Однако, возможно, все объясняется гораздо проще: у большинства населения просто не было возможности узнавать реальное положение на фронтах, т.к. личные радиоприемники подлежали сдачи в первые же дни войны, а репродукторы — «черные тарелки», которые оставались в домах, учреждениях и на улице, транслировали только сухую информацию о положении на фронтах.
Поэтому представить себе, что одесситы, которые всегда были для меня синонимом благородства, доброты и чести, могли 2,5 года оккупации наслаждаться жизнью, стоять в очередях в рестораны, кабаре и публичные дома, заказывать костюмы в лучших одесских ателье и питаться свежайшими продуктами, которыми был забит знаменитый одесский Привоз, я категорически не мог. «Утешало» только одно, что в этом празднике жизни не участвовали евреи. Как говорится «бог уберег», хотя, если говорить откровенно, не уверен, что никто из евреев, останься они живы, не отказался бы от соблазна открыть в городе небольшую лавочку.
Поэтому я решил познакомить Вас с этими материалами, которые еще в большей степени подчеркивают трагизм судьбы всех погибших в Одессе советских граждан различных национальностей, включая и четырех обитателей квартиры в доме по Екатерининской улице, дом 2.
То, что эти воспоминания написаны эмигрантами, не имеет большого значения, читая следует отбросить их нескрываемую и часто понятную ненависть к большевикам, т.к. значение имеют только факты и описание повседневной жизни Одессы, которая за годы оккупации стала, по признанию многих, русским Марселем.
28. Одесса — русский Марсель?
Составителем и редактором сборника «Одесса: жизнь в оккупации. 1941-1944» является Олег Витальевич Будницкий — авторитетный советский и российский историк, доктор исторических наук, директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и её последствий, профессор Высшей школы экономики, член Европейской академии. Им же написана и вступительная статья, в которой он делает обзор текстов трех авторов, помещенных в этом сборнике, приводит наиболее важные выдержки и комментирует их, что помогает читателю ориентироваться в массе фактов, отделить субъективное от объективного. Поместить в этой главе все три текста конечно, невозможно, хотя они крайне интересны, пересказывать их — тоже неблагодарная задача, поэтому позволю себе воспользоваться обзором этих статей, который сделан самим Олегом Будницким, конечно, в сокращенном варианте.
«Нельзя сказать, что в работах советских историков история Одессы в период оккупации тотально фальсифицировалась. Проблема, однако, заключалась в том, что реалистично в основном показывая то, что было общего в оккупационном режиме и жизни в оккупации в Одессе по сравнению с другими городами, они игнорировали (да в условиях жесткого идеологического контроля и не могли поступать иначе) одесские особенности. В работах советских историков жители Одессы, во-первых, представали некой единой массой (за исключением отдельных отщепенцев), во-вторых, вели себя так, как должны были вести себя советские люди. Между тем, как показала оккупация, «советскость» многих из них была внешней, и при первой возможности была отброшена. Во всяком случае, многие из них «духовно» разлагались весьма охотно. Иначе трудно представить, как могли выжить многочисленные развлекательные заведения, с поразительной быстротой возникшие в городе. В постсоветский период публикуется ряд статей, в которых, преимущественно на материалах оккупационной печати, освещаются различные аспекты жизни города в 1941-1944 гг.
Среди источников о жизни в оккупации чрезвычайно важны источники личного происхождения: ведь официальные документы отражают далеко не все и редко передают, образно выражаясь, вкус, цвет и запах времени. Особенно важны воспоминания, создававшиеся по относительно свежим следам событий, на авторов которых успела повлиять та или иная сложившаяся традиция. Ряд текстов, посвященных жизни в оккупации, были написаны эмигрантами послевоенной, так называемой второй волны. Следует иметь в виду, что они остались за границей или ушли за границу вместе с отступающими немецкими или румынскими войсками в силу неприятия советской власти (многие — в силу сложившихся обстоятельств). Следует также иметь в виду, что немалое число эмигрантов второй волны сотрудничало в той или иной степени с оккупантами. Эти обстоятельства надлежит учитывать и не принимать все сведения, приводящиеся в созданных ими текстах за чистую монету. Впрочем, это относится к любым источникам личного происхождения».
К личным источникам относятся, конечно, и дневники, которые вели одесситы после начала войны, в дни её обороны и в годы оккупации. В предыдущих главах, посвященных началу войны, я уже цитировал их, поэтому крайне интересно продолжить знакомство с их записями, сделанными уже в период оккупации. Дневники в этот период продолжили вести Адриан Оржеховский, Владимир Швец и школьник Юрий Суходольский. Абсолютные разные по возрасту, профессии и по своим жизненным взглядам.
Адриан Оржеховский
11 января 1942 года. «Сегодня знаменательный у нас день: открытие нашего магазина. Вечером подсчитали выручку, которая показала 132 руб. Для первого дебюта это вполне хорошо. С таким капиталом, как у нас, больше и ожидать нельзя. Завтра будет у нас и молоко. Публика валом валит, одни, как всегда, критикуют, а меньшее число покупает. Наш магазин очень чистенький, имеет весьма опрятный вид. Для большей торжественности повесили икону Николая Чудотворца. Словом, всё честь честью.
Наряду с нашим событием, имеющим радостные надежды в будущем, как мы надеемся. Как раз сегодня произошла ужасная драма для всего Одесского еврейства. Сегодня ранним утром был расклеен приказ о выселении поголовно всех евреев из Одессы на Слободку, где для них устроено гетто. Отчаянию их нет границ, ведь негде спать, холод, к довершению пошёл снег. Никто ничего не знает где и как он будет жить, большинство составляют женщины, дети и старики. Словом, картина неописуемая, трудно всю эту драму передать. Какое счастье сейчас не быть евреем».
12 января. Сегодня поистине день страшного суда для всех евреев. Уже с раннего утра, шести часов, потянулись длинные вереницы на Слободку. У нас во дворе всё время раздавался вопль и плачь детей. По всем улицам тянулись эти несчастные длинной вереницей пешком, со своим грузом, на маленьких санках, еле плетущихся старух, стариков и детей по довольно глубокому снегу. Видел двух старух, древних совершенно обессиленных, лежавших прямо на снегу, не имея сил подняться. Занят по горло в магазине целый день, нет времени даже пообедать, но, конечно, это совсем неплохо, лучше, чем быть сейчас гонимым».
Владимир Швец
24 марта 1942 г. «Бывают столкновения с румынами. Например, когда вернувшиеся из тюрьмы евреи упросили румын, чтобы их впустили в их квартиры, то немецкий офицер избил румынского офицера. Произошла свалка и вызывали полицию. Отец в ответ рассказал, что якобы в их заводском дворе одна женщина прятала в сарае евреев. Как-то пошла им покупать еду. Оставшийся четырехлетний ребенок проговорился об этом румынам. Их схватили, но один еврей убил ногой этого ребенка. Женщину и евреев тут же расстреляли».
4 июня. «Приезжавший позавчера в Одессу Антонеску отдал распоряжение артистам оперы выплатить двойной оклад. По словам Юры, Савченко, который сейчас болеет после аварии с машиной, будет иметь 600 марок».
Юрий Суходольский
27 сентября. 1942 г. «В 5 часов утра были в Одессе. Добрались пешим порядком. Ну, конечно, встречи, лобзания… Подали заявления в индустриальный техникум… Буду бесплатно учиться. Вообще же плата 200 марок в год. Марки тут зовут рублями. Продуктов тьма… Страшнейшая радость. Пребывание с отцом и товарищами. Рад очень. Все — божественно. Но все-таки что-то не то. Жалко смотреть на разбитые дома. И вообще…»
14 октября. «…В Одессе, что и говорить, — жизнь налажена. Городской голова господин Герман Пынтя на открытии Университета сказал, что жизнь в Одессе лучше, чем в каком-либо другом городе Западной Европы. Действительно, на базаре прямо что-то удивительное: колбасы, мясо, масла, фрукты и все прочее, конечно, все страшно дорого, но все-таки. Учебные заведения функционируют, трамваи ходят. В городе на каждом шагу «бодега» (небольшие подвальчики, где продавалось вино и нехитрая закуска), пестрят вывески, комиссионные магазины, по улицам ходят нарядные дамы (сильно накрашенные), румыны и немцы. Попадаются разрушенные здания — обком, банк, 116-я школа, телефонная станция, пушкинский домик, дома по Дерибасовской, Ришельевской и др. Много. Некоторые разрушены до основания от удара мин на парашюте… Но часть домов уже отстраиваются, открываются новые магазины, мальчишки бегают, рекламируя «Одесскую газету», «Одессу», «Мир», «Смех», «Колокол», «Детский листок», «Неделю». Газеты и журналы далеко не все хорошие. Какого-то сплетническо-холуйского направления. Завтра открытие сезона в оперном театре — «Борис Годунов». Папа поет…»
Владимир Швец
16 октября 1942 г. «Сегодня празднуется годовщина занятия Одессы. Много шума и музыки. Много речей, уверений, молитв. По улицам встречаются собиратели «пожертвований». В консерватории был молебен…»
Юрий Суходольский
16 октября 1942 г. «Сегодня в Одессе праздник — годовщина освобождения города от «ига большевизма» и т.п. В церкви на Пушкинской улице молебен. Весь город украшен национальными флагами держав Оси. Приказано вывешивать с балконов ковры… По улицам ходят люди с кружками, продают флажки в пользу бедных».
18 октября. «Были сегодня с отцом в цирке на боксе — по пропускам, которые достал Игорь. Интересно. Бились 7 пар. Самый интересный был бой между румыном из Кишинева и одним одесситом. Одессит буквально не дал опомниться румыну и так его избил, что тот совсем ошалел и не сопротивлялся. В цирке стоял дикий вой, победителя целовали. Румын подает в суд, и делу еще, как видно, придана «окраска» …»
Владимир Швец.
17 февраля 1943 г. «На углу Дерибасовской и Ришельевской румыны роют пулеметные гнезда. Но жизнь по-прежнему в Одессе оживленная. В консерватории прошел концерт, посвященный Моцарту, прошел вяло».
Адриан Оржеховский.
21 февраля 1943 г. «На фронте, вот уже два месяца, красные, собрав огромные силы, пошли в наступление и без перерыва, волна за волной, день и ночь со страшной стихийной силой нажимают на немцев, которые за последнее короткое время, а в особенности за эти несколько дней потеряли огромное пространство, отступив почти по всему фронту, а особенно на Украине, сдав Сталинград и ряд других городов вплоть до Харькова. Болтают, что румыны в Сталинграде изменили и три дивизии сдались, обнажив на широком фронте брешь, куда хлынули советские войска. В Германии объявлена тотальная мобилизация. Что будет дальше — посмотрим. У меня настроение подавленное».
Владимир Швец.
11 мая 1943 г. «Утром был в Университете на итальянском. Но потом меня так знобило и болел зуб, что раньше времени ушел с лекции домой. Мне рассказывали причины выселения крестьян: они якобы спрятали высадившийся советский десант и не хотели выдать его. На Сахарном заводе в Одессе несколько раз разбрасывали прокламации, и румыны обещали расстрелять каждого пятого. Тоже происходило в Университете. Там поймали педагога, занимавшегося этим. Его так били, что «чуть кишки не вылезли».
14 октября. «Был в Университете… Моя работа по переложению Симфонии для фортепиано подвигается. Погода отвратительная, сырость и дождь. Но это очень хорошо, ибо срывается эта наглая комедия торжеств по случаю 2-летия пребывания варваров в Одессе. Усиленно говорят, что город перейдет к немцам. Но все это уже мало трогает. Кроме наихудшего, ожидать нечего. Вечером был в театре Вронского».
26 сентября. «Сообщено об эвакуации Анапы и Смоленска. Целый день переписывал Симфонию. В Вознесенске партизаны взорвали мост через Буг и немецкий эшелон должен был возвратиться. Солдаты пешком пошли другим путем. В Одессе есть подпольная организация, в которой принимают участие и слепые. Вечером был у Галины Георгиевны. Она нагадала мне дальнюю дорогу. Но этого не может быть! Я все-таки спрячусь при отступлении немцев…»
10 ноября 1943 г. «Был на лекции в Университете. Вечером с отцом пришел недавно приехавший с фронта, бывший директор завода румын Ауде. Он ночевал у нас и много рассказывал. Он был под Сталинградом. Там его взяли в плен, а потом отправили восвояси. Он знает, что под Одессой легло 200 тысяч румын. Под Крымом и Сталинградом — 700 тысяч. Теперь в Румынии даже не встретишь ни молодого человека, ни даже пожилого. Остались одни бабы и калеки. Он говорил много такого, что подняло мои надежды на благополучный исход всего…»
Адриан Оржеховский.
25 декабря 1943 г. «Все воюющие стороны уверены в победе, конечно, кричат потому, чтобы подбодрить свой народ и легче погнать на фронт, умирать за их приукрашенные идеи. Словом, все ещё очень сильны, все имеют неисчерпаемый запас дураков, военного материала и времени, а потому, война может продлиться ещё два Рождества. А мы с Тосей одиноки. Я пишу эти строки, а она читает «Новое слово», статью «Одесса и одесситы», где корреспондент описывает жизнь и обилие всего у нас. И действительно такого благополучия, пожалуй, во всей Европе нет. Всё есть. В нашем, например, магазине полное изобилие. Литров 400 вина, водка, ликёр, колбасы — всего полно. Базары полны белым прекрасным хлебом и всё- таки, несмотря на такое изобилие, очень многие ждут не дождутся красных, не понимая того, что на следующий же день не достанешь куска хлеба…»
Владимир Швец.
14 марта 1944 г. «Был в Консерватории. В связи с неуспехами немцев всюду опять паника. Говорят, о сдаче Николаева, Херсона и Очакова. Местным избранным немцам дан приказ до четверга приготовиться к эвакуации. Жорж в библиотеке как помешанный набросился на Александру Николаевну за то, что она, якобы, паникерша. Он считает, что наступление большевиков — газетная утка, что через три дня все увидят, как все переменится. «Все идет, как я сказал, я ничего не боюсь, даже если бы они завоевали бы всю Европу. Одессы им не взять!» — говорил Жорж. Над ним все хохотали».
Андриан Оржеховский.
25 марта 1944 г. «Суббота, пять часов. Настроение отвратительное. Каждый день встаю в 11-12 ч. дня. Голова полна глупейших мыслей. Полный паралич воли, стремление к чему-либо и вообще к полезной деятельности. Что делать. Надо открыть магазин и нет никакого желания. Да и собственно нечем торговать. Попытаюсь открыть в понедельник. Многие уезжают, Одесса снова пустеет, как в еврейский погром. Почти все магазины закрыты. На рынке снова цены поднялись. Что-то будет… В Германии объявлена тотальная война. У нас же, в Одессе, началась паника и население бросилось раскупать продукты, крестьяне же прекратили подвоз. Таким образом, создался продовольственный кризис и базар пуст. Цены на всё возросли невероятные. Наш магазин за два дня опустел, и мы остались без товара, только с кучей бумажек, на которые нельзя ничего купить. Что будет дальше — посмотрим. У меня настроение подавленное».
26 марта. «Сижу при лампе, пью чай и пишу эти строки. Ходил в город. Одесса снова умерла, как было при первом приходе румын, с той только разницей, что сейчас немцы, а румын очень мало, все эвакуируются. Улицы пусты, народу не видно, только одни немецкие грузовики, полные разным хламом, и то сегодня их значительно меньше, чем третьего дня. Говорят, что в порту уже закладывают мины, чтобы при отступлении всё взорвать. Беженцы утверждают, что немцы при отходе выгонят всё население из города. Судьба нам готовит второй еврейский исход».
7 апреля. «Одиннадцать часов утра. Благовещенье. Погода снова плохая, моросит. Грязь. До сего момента тихо. Изредка слышны взрывы. Тося пошла в церковь. Снился мне Веня маленьким. Где-то он. Наверное, если жив, следит за продвижением Красной Армии к Одессе. Да и остальные трое. Ведь ещё Одесса осталась, как крупный центр, не взята. Но часы ея уже сочтены».
Юрий Суходольский.
10 апреля 1944 г. «Итак! Одесса занята русскими. День полон впечатлений. Запишу кратко. Узнав о том, что в городе красные (утром, часов в 7), мы с папой пошли на Преображенскую и увидели первых красноармейцев (офицер в зеленой фуражке)…»
Причины, по которым авторы этих дневниковых записей, остались в Одессе и пробыли там все 2,5 года оккупации, различны.
Адриан Оржеховский, натерпевшийся в 20-годы от большевиков, как мелкий частник, лишенный избирательных, прав, озлобленный на советскую власть, остался в Одессе осознанно, полагая, что фашисты скинут большевиков, и он уже не должен будет работать красильщиком на фабрике, а откроет, как и в былые времена, небольшой магазинчик.
Владимир Швец, студент консерватории, талантливый музыкант, полностью поглощённый музыкой, не интересующийся политикой и полагавший, что сможет остаться вне её даже с приходом немцев.
Юрий Суходольский, школьник, комсомолец, приехавший на каникулы в Одессу и не успевший её покинуть.
Было бы несправедливо упрекать их в коллаборационизме, в каком-либо пособничестве оккупантам. Они, как и многие другие одесситы, просто выживали и, в основном выживали неплохо, приняв установленные оккупантами правила этого выживания, закрыв или прикрыв глаза на творящиеся вокруг них ужасы. Никто из них после освобождения ни в чем не был обвинен и никакого наказания не понес.
Адриан Оржеховский по иронии судьбы после войны работал в одесской Совпартшколе, правда в качестве ночного сторожа и тихо умер в 1960 году.
Владимир Швец закончил в 1946 году консерваторию, вел активную композиторскую деятельность, был успешным и любимым своими учениками учителем в одесской школе им. Столярского, написал ряд книг по теории музыки и умер в 1991 году.
Юрий Суходольский сразу после освобождения Одессы ушел на фронт и через несколько месяцев, 6 ноября 1944 года погиб на окраине венгерской деревушке недалеко от озера Балатон.
Подобные дневниковые заметки интересны своей абсолютной искренностью, эмоциональной открытостью и частными, но важными деталями, однако общей и полноценной картины жизни в оккупированной Одессе они не дают. Поэтому вернёмся к вступительной статье и обзору трех публикаций о жизни оккупированной Одессы, сделанными Олегом Витальевичем Будницким.
«Несколько дней спустя, «в одно чудесное весеннее утро» в Одессу выехал корреспондент Би-Би-Си Александр Верт. Он был одним из первых корреспондентов и, несомненно, первым иностранным журналистом, побывавшим в «русском Марселе» после освобождения.
Двадцать лет спустя Верт опубликует лучшую книгу о войне на восточном фронте — «Россия в войне 1941-1945». Через год ее переведут на русский язык и издадут в нумерованном количестве экземпляров «для служебного пользования». В 1967 году перевод книги Верта в существенно урезанном виде выпустят для всех. Книга будет мгновенно распродана и станет предметом вожделений, интересующихся историей Великой Отечественной войны и библиофилов. Между тем, в книге Верта, среди удаленных цензурой мест, содержатся любопытные сведения и наблюдения, относящиеся к настроениям и нравам жителей города, только что вновь ставшего советским. Эта глава так и называется: «Одесса: личные впечатления». Русский был для Верта таким же родным языком, как английский».
«Мы подъезжали к Одессе уже в сумерках, и по мере нашего приближения к Черному морю местность становилась все холмистее, и то тут, то там были заметны следы боев. Повсюду вдоль дороги валялось множество трупов лошадей, а здесь, на этих оголенных ветрами холмах на побережье Черного моря, мы опять видели конские трупы, воронки от бомб, а время от времени и трупы людей. И, вот мы уже в Одессе, на улицах которой чувствовался едкий смрад пожарищ. Одесса была погружена в непроглядную тьму. Немцы, которые на протяжении последних двух недель хозяйничали в городе, взорвали в нем перед уходом все электростанции; и, что было еще хуже, город остался без воды, если не считать небольших ее количеств, которые давали артезианские колодцы. В гостинице «Бристоль», где мы остановились, для умывания выдавалась бутылка воды в день.
Гостиницу обслуживали рабочий или биндюжник, с хриплым голосом и резким, неприятным смехом, и его помощник — жуликоватого вида старикашка с седой бородкой. Оба обычно стояли на тротуаре перед гостиницей и следили за одетыми в легкие платья одесскими девушками, проходившими мимо группками в четыре-пять человек. Они отпускали по адресу девушек непристойные замечания, а жуликоватого вида старикашка рассказывал при этом разные анекдоты».
О не слишком стойком поведении немалого числа одесских женщин откровенно говорили и собеседницы сотрудников академической Комиссии по истории Великой Отечественной, записавших в июне-июле 1944 г. интервью с более чем полусотней одесситов, переживших оккупацию. Круг опрошенных был разнообразен: от художественного руководителя Одесского театра оперы и балета, щедро финансировавшегося оккупантами, до скрывавшихся в катакомбах партизан. Библиотекарь О.П. Иванова рассказывала:
«Румыны входили во двор и говорили: «Я хочу любить». Надо сказать, что отдельные женщины здорово пользовались этим. Они делали из этого источник существования. Жили с румынами направо и налево. Доход был порядочный, потому что румыны любили красть и умели красть… и сносили все краденое той женщине, с которой они жили».
Правда, она не склонна была огульно обвинять всех женщин, нашедших себе «покровителей» среди румын: «У нас долго, чуть ли не полгода, не было хлеба. Хлеб имели только румыны военные. Женщин покупали за кусок хлеба. Трудно обвинять женщин…».
Как ни удивительно, но публичные дома открывались еще буквально за месяц до освобождения города. 11 марта 1944 г. юный одессит Юра Суходольский записал в дневнике: «Интересное дело. В одном доме №2 по Сретенскому пер. открыли публичный дом, — висит красный фонарь. Весь город уже это знает и оживленно беседует об этом».
Румынский оккупационный режим заметно отличался от немецкого: «Пока шансы держав «оси» на победу казались благоприятными, румыны намеревались превратить Одессу во второй, только более веселый и беззаботный Бухарест. И дело заключалось не только в том, что они открыли здесь рестораны, магазины и игорные притоны, и что Антонеску торжественно появлялся в бывшей царской ложе Одесской оперы, — здесь была предпринята также серьезная попытка убедить население города, что оно является и останется частью населения «Великой Румынии».
В отличие от того, что делали в оккупированных городах немцы, румыны не закрыли ни университета, ни школ. Школьников заставляли изучать румынский язык, а студентов предупредили, что, если они в течение года не научатся говорить по-румынски, их исключат из университета. Одна особенность отличала Одессу от городов, оккупированных немцами: Одесса была полна молодежи. Это была счастливая случайность: румыны считали Транснистрию составной частью своей страны, а ее жителей — будущими румынскими гражданами. Потому-то подавляющее большинство одесских юношей и девушек не были угнаны ни в Германию, ни в какое-либо другое место. Не призывали молодых одесситов и в румынскую армию, поскольку, с точки зрения румын, на них абсолютно нельзя было положиться
Об отличиях румынского оккупационного режима от немецкого рассуждал летом 1944 г. в разговоре с сотрудником академической комиссии по истории Великой Отечественной войны начальник областного управления НКГБ полковник Д.Е. Либин: «Тут было определенное заигрывание с населением, в частности, с научной интеллигенцией, с которой они очень крепко заигрывали. Кое-кому они установили второй оклад жалованья, сделали скидку на квартиру. Кое-кого прикармливали различными пайками, устраивали экскурсии в Румынию в виде поощрения».
Некоторые из видных ученых приняли участие в работе созданного румынами Антикоммунистического института, в том числе наиболее титулованный из них — член-корреспондент АН СССР астроном К.Д. Покровский. Среди сотрудничавших с Антикоммунистическим институтом были известный филолог-классик и театровед Б.В. Варнеке, филолог В.Ф. Лазурский, некогда живший в доме Л.Н. Толстого в качестве воспитателя его детей.
По наблюдениям Верта, в первые дни после освобождения Одесса сохраняла множество следов румынской оккупации:
«Все еще красовались объявления лотошных клубов и кабаре, вывески с написанным на них по-румынски словом «Бодега» и обрывки воззвания на румынском, немецком и русском языках (но не на украинском). Театральные афиши сообщали о музыкальных спектаклях в «Театрул де опера ши балет» … В Одессе имелось также много других развлечений, даже симфонический оркестр германских ВВС дал здесь концерт и исполнял Неоконченную симфонию Шуберта, Скрипичный концерт Бетховена и Пятую симфонию Чайковского.
Существовало здесь и несколько пошивочных ателье и множество других мелких мастерских, чьи владельцы теперь исчезли. Свободное предпринимательство всевозможного рода, как видно, вовсю процветало в Одессе при румынах. Румыны были спекулянтами, и половина одесского населения, а может быть и больше, тоже занималась спекуляцией. Разве не были спекуляция и предпринимательство в крови у каждого одессита? Румынские генералы возили из Бухареста целыми чемоданами дамское белье и чулки и заставляли своих ординарцев продавать все это на рынке. Даже и сейчас еще на рынке можно было купить много различных мелочей — немецкие карандаши, венгерские и немецкие сигареты, и даже флаконы духов, а также чулки, правда, последние уже становились редкостью и продавались только из-под полы. Милиция зорко следила за подобного рода торговлей, и одесситы на рынке выглядели несколько притихшими».
Лейтенант Советской армии Владимир Гельфанд вошел в Одессу в день ее освобождения. Во время войны он тоже вел дневниковые записи. Вот, что записал 11 и 12 апреля: «В одном из домов недалеко от станции Одесса-сортировочная застал траур и слезы. Посреди комнаты лежал женский труп. Голова мертвой женщины была перевязана и вокруг нее стояла лужа крови. Девяностолетняя старуха-мать, молодой муж и стая детишек навзрыд плакали над трупом. В последние дни своего пребывания в Одессе оккупанты запретили местному населению показываться на улице с наступлением темноты. Хозяйка выглянула из дверей собственного дома, и была хладнокровно застрелена на пороге немецким солдатом».
Гельфанда поразила красота Одессы, костел, собор и, конечно, оперный театр. Он вошел внутрь, где импровизированную экскурсию проводил какой-то военный, причем среди посетителей лейтенант заметил генералов. А у входа в театр митинговали артисты. «Это было трогательно и радостно. Артисты были готовы дать спектакль для Красной армии на следующий день». Гельфанд сожалел, что он должен отправиться догонять свою часть. Он, конечно, не подозревал, что ряды артистов существенно поредели: все ведущие балерины отправились вслед за оккупантами, некоторые артистки — вместе со своими покровителями, румынскими старшими офицерами. Всего уехало 17 солистов балета. После освобождения города художественный руководитель одесского оперного театра профессор В.А. Селявин писал в записке, озаглавленной «Сведения о деятельности румын в Одесском оперном театре во время оккупации», составленной, видимо, по требованию Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков: «Нищие духом, бедные знаниями и отставшие от русского театра румыны жадно впились в театр, желая показать, каким храмом искусства они завладели».
По словам Селявина, коллектив тянул «тяжелое ярмо», «питаясь одним хлебом, так как заработная плата длительное время не выдавалась. Все работники чувствовали себя, как в концлагере за колючей проволокой». Селявин лукавил, т.к. театр открылся уже через день после захвата Одессы оккупантами — 18 октября 1941 г. Возможно, поначалу артисты и в самом деле питались одним хлебом, хотя и это вызывает серьезные сомнения, но уже в июне 1944 года Селявин сообщил сотруднику академической Комиссии по истории Великой Отечественной войны нечто иное:
«Материальные условия у них (звезд театра) были блестящие.
Они получали губернаторский паек в губернаторском магазине. Этот паек делился тоже на несколько категорий. Первый паек: пять кило сахару, пять кило масла, еще что-то. Жалованье труппе было щедрое. Больше всех получал Савченко — 2250 марок (сахар был 20 марок). Средняя ставка в хоре 400 марок, но было и 500 и 600. Ведущие артисты меньше 600 не получали. Жалованье всей труппе в месяц составляло 39 тысяч. Театр дважды посещал Антонеску. Каждый визит диктатора сопровождался выдачей месячного оклада всем сотрудникам театра без исключения».
Свидетельства британского и советского журналистов, заставших последние отблески одесского «экономического чуда», или по крайней мере слышавших свежие воспоминания одесситов о нем, подтверждают реалистичность воспоминаний об Одессе корреспондента берлинского «Нового слова» Николая Февра. который побывал в Одессе в ноябре-декабре 1943 года. Его поразили как изобилие одесского рынка, так и расцвет культурной жизни.
«Знаменитый одесский Привоз кипел жизнью. Магазины, подводы и масса оживленных людей» придавали ему вид ярмарки: по сторонам видны горы разнообразных товаров. Тут и сало, сложенное ярусами, окорока, колбасы, копченая рыба, бесконечные корзины с виноградом и яблоками, а на улице — живая птица и поросята с камнем, привязанным к ноге, чтобы не убежали от хозяина. На человека, хорошо знакомого в то время с полуголодной жизнью большинства европейских городов, одесский рынок производил ошеломляющее впечатление не только своим обилием, но и непонятными вначале причинами последнего».
Однако самым сильным было, пожалуй, первое впечатление Февра: «Столб, заклеенный разного рода плакатами и объявлениями: И чего тут только нет. «Борис Годунов» и «Пиковая дама» в опере,“Лебединое озеро» и «Корсар» в балете, «Воскресение» — в театре Василия Вронского, «Лизистрата» — в Музыкальной комедии, «Запорожец за Дунаем» — в Современном театре, «Розмари» — в Оперетте, «Красная шапочка» — в Детском театре. Какими-то потрясающими номерами пестрит афиша городского цирка, а соседний плакат приглашает на футбольный матч сборной Одессы против сборной Бухареста. Огромная лента, обвивающая весь столб, извещает о том, что в ближайшее воскресенье в Александровском парке состоится народное гулянье с музыкой, лотереей, выступлениями артистов и прочими атрибутами. Еще несколько афиш об отдельных концертах и, прочтя все это, начинаешь верить, что все это пир во время чумы. Но, нет. Под большими плакатами читаю маленькие объявления: «Куплю щенка от шпица», «Исправляю почерка в течение месяца», и, наконец, — «Беспружинный бандаж системы Виктора Фишера. Удобен днем и ночью. Полезен тем, кто страдает от кашля.» Нет, это не пир во время чумы. Во время чумы почерка не исправляют, шпицев не покупают, а беспружинным бандажом не интересуются, даже в том случае, если он помогает страдающим от кашля».
Надо отметить, что воспоминания берлинского корреспондента об изобилии одесского Привоза в годы оккупации слово в слово совпадают с записями в дневнике, сделанными в то же время комсомольцем и патриотом Юрой Суходольским, помещенными в этой главе выше.
Когда я читал про изобилие на рынке во время оккупации Одессы, или о том, что одесский театр уже через пару дней после занятия города румынами и немцами открыл свои двери и продолжил свою работу, предлагая восторженным зрителям свои лучшие постановки, то невольно искал для себя объяснение этим фактам, которые категорически не укладывались в моем сознании и противоречили тому, что я знал о жизни в других советских городах, захваченных немцами. Очевидно, объяснял я сам себе, румыны, считая одесскую область и саму Одессу, уже территорией Транснистрии, поощряли там развитие сельского хозяйства, урожаи там всегда были хорошие, рынки стали наполняться, и одесситам не пришлось голодать, как в других советских захваченных городах, что избавило их от мучений и страданий, и, слава богу, думал я. То, что одесситы могли пойти в театр, послушать там оперу и хорошую музыку, позволяло отвлечься им от переживаний, страха и горестей, ненадолго забыться, сберечь свои душевные силы. Ну, а то, что рядом с ними сидели румынские, а часто и немецкие офицеры, это, как и оккупация, от них самих не зависело. То, что университет, консерватория и другие учебные заведения продолжили работать, давало возможность молодежи, которая осталась в городе, не потерять несколько лет жизни, не быть угнанными в Румынию, и получить образование и успешно работать потом на благо их советской Родины после Победы, которую они все же ждали, думал я.
Но на этом мои попытки объяснить самому себе эти неожиданные факты из жизни одесситов в период оккупации моей любимой Одессы закончились, т.к. то, о чем еще написали журналисты в своих воспоминаниях, объяснить было уже трудно.
К своему большому и искреннему удивлению я выяснил, что помимо куска хлеба с маслом и возможности жизненные горести компенсировать музыкальными переживаниями, Одесса предлагала, а большинство одесситов с удовольствием и даже с жадностью пользовалось массой других повседневных радостей и удобств, которые делали их жизнь в высшей степени приятной и комфортной. Понятно, что всё это изобилие продуктов, поражающее впечатление, и разнообразие предлагаемых услуг могло возникнуть только при условии экономического роста, развитии промышленности и, что очень важно, при востребованности этих возможностей населением.
Долгие годы об экономической жизни Одессы в годы оккупации ничего не писалось либо писалось в духе того же профессора С.А. Вольского, книгу которого «Очерки по истории Одессы в годы Великой Отечественной войны» удалось отыскать Олегу Будницкому. Вот, что он писал: «Экономическая жизнь Одессы пришла в полный упадок. Порт фактически бездействовал. Стояли фабрики и заводы, за исключением нескольких предприятий пищевой промышленности. Зато процветала спекуляция, которую оккупационные власти широко поощряли, как «частную предпринимательскую инициативу». Свора хищников-спекулянтов, нахлынувшая в Одессу из Румынии, открыла различные торговые заведения, в которых распродавала награбленное государственное добро и личное имущество трудящихся. Замерла культурная жизнь города… Полный крах потерпела также попытка врага духовно разлагать советских людей при помощи фашистской лживой пропаганды, продажной печати, кино, радио, театральной балаганщины. Население с отвращением и презрением бойкотировало все так называемые культурные мероприятия гитлеровцев».
Как и в его предыдущей цитате из статьи о положении Одессы в начале оккупации, так и в этом опусе профессор, мягко говоря, искажает факты с точностью до наоборот.
Александр Даллин, известный американский историк, в своей книге «Захваченные территории СССР под контролем нацистов» рисует совсем другую картину. Он называет период румынской оккупации «новым нэпом». «Подавляющее большинство предприятий, как и в период нэпа, открывалось в сфере услуг. Это были закусочные, рестораны, бани, прачечные, парикмахерские, гостиницы, кинозалы, варьете. Что касается производства, то, во-первых, большая его часть находилась под контролем оккупационных властей, во-вторых, для того, чтобы открыть фабрику требовался значительный капитал, который было неоткуда взять, и, в-третьих, специальные навыки, которых тоже не было у большинства новых предпринимателей. По мнению Даллина, новые предприятия удовлетворяли спрос на комфортный, «буржуазный» стиль жизни и стремление к «нормальности».
О размахе предпринимательской активности свидетельствует число заявок на открытие новых предприятий. К 30 июня 1942 г. городскими властями было выдано 3536 лицензии на торговлю и 926 – на открытие предприятий. Уже в начале 1942 г. в Одессе было зарегистрировано 1500 частных магазинов, а в начале 1943 г. эта цифра достигла почти 6 тысяч. По другим данным, в период с 1 ноября 1941 по 1 августа 1942 года румынскими властями было выдано 5282 разрешения на открытие частных предприятий, в том числе ресторанов, кафе, столовых и закусочных продовольственных магазинов, булочных и кондитерских, пекарен, универсальных, комиссионных и галантерейных магазинов, магазинов стройматериалов, мыловарен, различных мастерских, в том числе топливных, кожевенных, часовых, авторемонтных, слесарно-механических и кузнечных, столярных, портняжных, сапожных и музыкальных. Особой популярностью у новых предпринимателей пользовались парикмахерские: поступили заявки на открытие 1251 заведения такого рода.
В отличие от немецких оккупантов, стремившихся к деиндустриализации захваченных территорий, румыны, считавшие оккупированные территории «своими», сразу же приступили к восстановлению промышленности и добились в этом, несмотря на почти полную эвакуацию промышленных предприятий, определенных успехов. Через год после захвата румынами Одессы промышленность, в основном обрабатывающая, была восстановлена по разным видам от 60 до 90%.
Из приведенных данных видно, что хозяйственные румыны очень рачительно отнеслись к попавшему к ним в руки «богатству». «Не пропадать же добру», — думали они, и после истребления евреев начали активно обустраивать свою жизнь не только в Одессе, но и на всей территории Транснистрии, осуществляя заветную цель румынских националистов — создание «Великой Румынии».
Вернемся к сборнику и впечатлениям очевидцев той «райской» жизни, которая чудным образом возникла в Одессе.
Открывает сборник мемуарный очерк Н.М. Февра «Транснистрия. Одесса в годы Второй мировой войны». Николай Михайлович Февр был довольно известным журналистом, происходившим из эмигрантских «детей». В 1941 году его как журналиста пригласили в берлинскую газету «Новое слово». Будучи корреспондентом этой газеты, он несколько раз бывал на оккупированных территориях СССР. В третью командировку в декабре 1943 года он большую часть времени провел в Одессе, результатом чего стал цикл статей в «Новом слове». Статьи носили явно нацистский оттенок и не скрывали антисемитских настроений автора, от которых он впоследствии всячески открещивался, но его впечатления от обстановки в Одессе, безусловно, представляют интерес.
«…Шум и гомон толпы оглушают, а шустрые одесские мальчишки вскакивают на подножку пролетки и наперебой предлагают спички, папиросы и зажигалки. На человека, хорошо знакомого в то время с полуголодной жизнью большинства европейских городов, одесский рынок производил ошеломляюще впечатление не только своим обилием, но и непонятными вначале причинами последнего.
Именно на этом базаре один крестьянин, приехавший сюда из голодного Николаева, простояв некоторое время в восторженном оцепенении, вдруг — еще раз осмотревшись по сторонам — снял с себя шапку, перекрестился и воскликнул: — «Господи! … Ну, ей-богу, как при царе!»
Выезжаем на Преображенскую улицу. День уже вступил в свои права. На улице много людей, спешащих по своим делам. Резво пробегают переполненные трамваи. Магазины и лавки, — а тут они на каждом шагу, — уже открыли свои двери и полны покупателей.
Проезжаем мимо сквера, разбитого на том месте, где был когда-то снесенный большевиками одесский собор, и сворачиваем на Дерибасовскую. Останавливаю извозчика у газетного киоска, и тут новое изумление. В Одессе оказывается четыре ежедневных русских газеты, два иллюстрированных еженедельника и юмористический журнал. После чахлых еженедельных газеток, виденных мною на территории, оккупированной немцами, — четыре ежедневных одесских газеты говорят о жизни этого города даже больше, чем набитый снедью одесский базар….
…. Одесский день начинается рано. В половине шестого утра гудит сирена. Не грозно-завывающая, а обыкновенная, ровная и мирная. Она не зовет людей в бомбоубежища, а возвещает рабочему люду Одессы, что трудовой день начинается. Через полчаса одесские улицы оживляются кучками спешащих на свои предприятия рабочих. Одесситы, принадлежащие к более спокойным профессиям, могут поспать еще часок. Для многих из них сигналом к пробуждению является одесская радиостанция. Без пяти минут семь из всех бесчисленных громкоговорителей одесских квартир раздается мелодичное пение петуха. Затем нежный голос маленькой девочки читает «Отче наш». После этого начинается музыка. Не надо быть очень сентиментальным человеком для того, чтобы в этом оригинальном начале одесских радиопередач почувствовать нечто радостно-успокаивающее. В восемь часов одесские улицы полны, и жизнь большого города бьет ключом…
… Однако коммерческие успехи одесситов не ограничивались только «бодего-ресторанным» сектором. В городе появилось много магазинов, торгующих первоклассной мануфактурой, обувью, драгоценностями, а какие-то особо предприимчивые акционеры открыли также универмаг «Лафайет», занимавший целый этаж и снабжавший самыми различными товарами. Правда, цены на все, кроме продуктов питания, были все время очень высокими, но все же значительно уступали ценам на эти товары, существовавшие тогда в других европейских городах. Во всяком случае, если бы какой-нибудь одесский франт, ушедший в небытие в 1916 году, вдруг появился бы снова в Одессе, то он мог бы без всяких карточек и комбинаций заказать себе фрак у портного на Дерибасовской улице, купить в магазине букет цветов, коробку шоколадных конфет и поехать на балетную премьеру в театр. А после театра устроить приятелям, по случаю нового воскресения, банкет в «Лондонской гостинице» с икрой, шампанским и дичью. Это же самое в то же время он мог бы сделать лишь в двух-трех городах Европы. Одесса жила и торговала, и к концу 1943 года по городу уже ходили темные слухи, что в Одессе появились «миллионеры». С некоторыми из подозреваемых капиталистов меня познакомили. Я не спрашивал, правда, сколько у них денег, но, несомненно, это уже были состоятельные люди».
 |
Примеры описаний благополучной жизни Одессы в годы оккупации я мог бы продолжить, в воспоминаниях Верта, Февра, Петерле и Мануйлова им уделено много внимания, но это уже ничего существенного не добавит к тому выводу, который приходится сделать: одесситы, за малым исключением, с готовностью и удовольствием окунулись в неожиданно набежавшую на них волну счастливой жизни, не замечая привкуса крови в её мутной воде. Почему так получилось? Таким же вопросом задался и Февр, автор выше приведенных наблюдений жизни Одессы. Его выводы, несмотря на его определенную ангажированность, достаточно обоснованы, вот что он писал в своих записках:
«Будущий летописец Второй мировой войны и судеб русских областей, попавших в ее водоворот, непременно посвятит несколько страниц завидной судьбе Одессы, столь непохожей на судьбы других русских городов. А каждый побывавший здесь в дни войны с удивлением отыскивает причины этих почти фантастических темпов возрождения одесской жизни.
Причин этих, разумеется, несколько, и только счастливое сочетание их вместе обусловило граничащее с чудом воскресение Одессы из мертвого социалистического ада. Главным двигателем этого воскресения были три слова, великое значение которых жирной чертой подчеркнули дни одесского возрождения. Эти слова: свобода частной инициативы. Новая одесская администрация прекрасно поняла, что главное оружие против страшного наследства, оставленного марксистским опытом, это частная инициатива и всяческое поощрение ее. В первые же дни оккупации из губернаторства и городского управления начал бить живительный источник патентов на открытие всевозможных частных предприятий, магазинов, лавок, ресторанов. Там, где частная инициатива не могла справиться сама, ей навстречу выходили городские власти — ссудами и пособиями. Кроме того, губернаторство и городское управление сами открывали свои кооперативы и лавки. Делалось это, конечно, не без пользы для чиновников этих учреждений, входивших обычно пайщиками в эти предприятия, но это не столь важно. Важно то, что в результат, вся Одесса покрылась сетью различных торговых предприятий.
Чтобы эти производства снабдить нужными товарами и сырьём, румыны начали восстанавливать фабрики и заводы. В этом вопросе главную тяжесть взяли на себя губернаторство и городское управление. Благодаря усилиям в этом направлении, за короткое время почти все одесские фабрики были восстановлены, причем не только производящие все необходимое для жизни, но и те, которые производили, по понятиям военного времени, предметы роскоши, как-то: шоколадные конфеты и металлические закрепки для деловых бумаг. Все это, вместе взятое, сразу же дало импульс одесской торговле, а главное — заставило крестьян с охотой и доверием везти на городские рынки свои продукты, за которые они там получат не только пачку разноцветных бумажек, но и почти все, что может произвести для деревни большой город. Все это не только способствовало снабжению Одессы продуктами питания, но и быстро поставило на ноги крестьянские хозяйства, ожившие после стольких лет систематического грабежа советским государством.
Немалую роль в быстром восстановлении одесской жизни сыграло и то обстоятельство, что румынская администрация Одессы состояла в своем большинстве из бессарабцев, по существу бывших более русскими, нежели румынами. Городской голова Одессы Герман Пынтя и его правая рука Костинеску в прошлом были русскими офицерами императорской армии. Вся новая администрация Одессы была сверху до низу пронизана бессарабцами, не только прекрасно знавшими русский язык, но и отлично понимавшими нужды и чаяния населения. Это привело к тому, что не только горожане, но и приезжие крестьяне охотно общались с новыми властями, встречая там понимание и сочувствие».
Надо добавить, что все «летописцы», не зависимо от своих взглядов и отношению к оккупантам, выделяют фигуру Германа Пынти, наделяя его чертами, резко отличавшими его от других высоких чинов румынской администрации.
Герман Пынтя был опытным администратором, несколько раз занимал пост мэра Кишинева. Он много сделал для восстановления разрушенных в Одессе зданий, городских коммуникаций, электростанций, открытию университета, наведению в городе чистоты и порядка. Его усилия привели к тому, что все одесские музеи были сохранены и защищены от разграбления и вывоза экспонатов в Румынию. В литературе ему иногда приписывают чуть ли не руководство массовыми казнями на улицах Одессы после взрыва здания управления НКВД. Это неверно. Пынтя не был поставлен в известность о готовящейся экзекуции и протестовал против этого, так же как против депортации одесских евреев в письме к Антонеску от 23 октября1941 года. Казни он назвал варварством, «которое мы никогда не будем в состоянии смыть перед цивилизованным миром».
Тем не менее, хотя депортации и убийства продолжались, Пынтя в отставку не подал. Добавим, что впоследствии Пынтя дважды представал перед судом: сначала советским, потом румынским. И оба раза был оправдан, что было нечастым случаем в отношении сотрудников оккупационной администрации.
В январе 1944 г. в связи с приближением к Одессе войск Красной армии немцы ликвидировали в Одессе румынскую администрацию во главе с Германом Пынтей и ввели в город свои войска.
Вот как завершает свои воспоминания Ян Петерле:
«В марте 1944 года уже начался хаос, и немцы почти без сопротивления со стороны перепуганных румын прибрали управление к своим рукам. Снова на вокзалах битком набивались поезда, с опаской шли они в Румынию через Тирасполь, к которому приближалась советская армия. В городе циркулировали всевозможные слухи, и среди них доминировал тот, что все население должно спокойно ожидать прихода «своих» и что «свои» теперь уже не прежние, они «другие», они несут с собой не репрессии, а новые порядки, потому что война их многому научила и изменила политику. И как многие — даже седовласые — этому искренне верили и радовались. В результате этого в семьях бывали ссоры, раскол: одни решали эвакуироваться, другие хотели остаться, и были случаи, когда тот или другой член семьи сбегал и где-то прятался.
В конце марта Одесса замерла. По ночам на улицах опять стреляли. Базарные будки заколачивались. Кто мог, запасался продуктами. И только для немецких военных шли последние спектакли в опере. Явно росло партизанское движение, куда шла горячая молодежь, а также те элементы, которые готовились сделать «поворот на 180 градусов» и приветствовать цветами Красную армию, надеясь таким путем заслужить «прощение».
С небольшими уличными боями и, по-видимому, без значительных новых разрушений, 9 апреля Одесса из эфемерной «столицы Транснистрии» снова превратилась в советскую «спящую красавицу».
Конечно, было и не мало, в Одессе людей, перед которыми не стоял выбор: бежать вместе с немцами или оставаться, они жили в ожидании конца оккупации и освобождения Одессы. Вот что записала в своем дневнике, который был издан после войны под названием «Жизнь в плену», Екатерина Гажий:
«10.04.44 (5 часов утра). Всю ночь грохотали орудия, слышна была канонада. Взрывы громадной силы сотрясали весь дом. Кругом горели заводы, говорят взорвали водопровод. Никто не спал. Всю ночь разговоры, все ждут расправы немцев, видно, что городу пришел конец. Сейчас лежу в кухне на ящике, т.к. уже ни ходить, ни соображать что-либо не могу… Говорят русские в Кремидовке…
(6 часов вечера) Боже, неужели свершается. Русские в городе. Да, русские солдаты, офицеры… И население осталось… Нас не выгнали, не убили, не разграбили. Пришли наши родные, дорогие действительные освободители. Лежу утром в кухне, слышу, как казаки на улицах стреляют… Страшно… Вдруг вбегает Володя, который вышел поразведать, что делается (было часов 6 утра), лицо у него дергается, сам плачет: «Русские солдаты в городе, я сам видел»… Схожу вниз. На улицах народ кучками стоит у ворот, но все боятся выказать свою радость. Все говорят: «Может быть немцы провоцируют». Но вот к нашему дому подъезжает машина с русскими красноармейцами и офицерами. Сомненья нет. Народ их обнимает, целует, зовет в квартиры, поит, кормит. Целый день в городе царит оживление. Все поздравляют друг друга. В церквах молебны по случаю избавления от «иноплеменных», колокольный звон… Неужели мы выжили? Неужели все ужасы кончились?! Но ведь война не кончилась. И если мы уже пережили, то многим еще придется переживать все эти ужасы. Неужели конец?»
Десятого апреля 1944 года войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Родиона Малиновского при поддержке Черноморского флота под командованием адмирала Филиппа Октябрьского полностью освободили Одессу от захватчиков.

Советские войска в Одессе |
За время оккупации города, продолжавшейся девятьсот семь дней, погибли около ста тысяч жителей, семьдесят восемь тысяч человек были угнаны на принудительные работы в Германию. Спасаясь, фашисты почти полностью уничтожили одесский порт, но к счастью не успели взорвать ряд заминированных зданий Одессы, в том числе и Одесский оперный театр.
 |
Завершая эту главу, хочу сказать, что такой удивительный феномен, как благополучная и, в целом, спокойная, жизнь жителей оккупированной Одессы, мог бы случиться не только в этом крупном городе Украины, но и на всей территории этой советской республики, если бы Гитлером и его окружением была бы принята концепция одного из главных идеологов нацизма – Альфреда Розенберга, а не его оппонента Вильгельма Кубе. Эти два высокопоставленных нацистских чиновника были единомышленниками и верными соратниками Гитлера. Единственно, в чем они расходились, так только в планировании судьбы Украины, а точнее её населения, в будущей войне с СССР.
Гитлер готовился к войне с СССР, не только наращивая военный и промышленный потенциал, но и разрабатывая подробнейшие базовые концепции завоевания огромной страны. Одной из них было уничтожение славянских народов, либо превращение их в абсолютно бесправных рабов. Она не вызывала никаких возражений у Розенберга, за исключением вопроса о действиях на территории Украины и, в частности, об участи народа, там проживающего. Он считал, что Украина с её плодороднейшими землями, развитым животноводством, прекрасными климатическими условиями, могла бы быть неиссякаемым источником первоклассных продуктов и сырья, а производить их могли бы сами украинцы, настроенные, как он считал, к большевикам и советской власти в своей основе враждебно (что в большой степени было правдой).
Особенно антисоветские настроения существовали в западных областях Украины, что ярко проявилось уже в первые дни появления немецких войск в этих областях. Украинские эмигрантские, так же, как и русские организации, находящиеся за рубежом, не оставляли планов возрождения свободной и независимой Украины.
Руководители и идеологи украинских националистов, одним из которых был Степан Бандера, видели в нацистской Германии ту силу, которая могла бы свергнуть в России и на Украине власть «жидо-большевиков», что позволило бы им, как они надеялись, вернуться и создать независимое украинское государство. Еще в середине 30-х годов они начали налаживать с нацистскими кругами Германии различные связи и вести активные переговоры о возможном сохранении украинской государственности после победы Германии над СССР, и получали от них обнадеживающие намеки. Одним из переговорщиков со стороны Германии был Розенберг.
В связи с этим, он еще задолго до начала войны был противником массового уничтожения украинского населения и продолжал настаивать на этом даже тогда, когда эта концепция стала превращаться в жуткую реальность в первые же месяцы оккупации Украины. Его категорическим противником в этом «идейно-теоретическом» споре был не менее высокопоставленный нацистский чиновник Альфред Кубе, который считал, что украинцы, как и все «недочеловеки» должны быть уничтожены или сведены до уровня рабочих животных, и никакие соображения об экономической целесообразности в расчет приниматься не должны. Его болезненная идеологическая озверелость, разделяемая Гитлером, возобладала над нацистской прагматичностью Розенберга.
Этому противостоянию двух нацистских идеологов, посвящена целая глава в очень интересной книге Александра Даллина «Захваченные территории СССР под контролем нацистов в 1941-1945 годах». Там подробнейшим образом излагаются все их «творческие» споры, аргументы, обоснования и даже экономические расчеты. Но «победил» Кубе и все остальные идеологи превосходства арийской расы, и потому население Украины уничтожалось так же планомерно и с таким же безумным садизмом, как и на других оккупированных областях СССР. Поэтому жизнь Одессы под румынами можно рассматривать только как модель использования «мягкого» оккупационного режима, позволяющего привлекать местное население на свою стороны, при условии его внутренней готовности к этому.
Если бы фашисты последовали доктрине Розенберга, а также использовали бы одесский опыт румынской военной администрации, то они, скорее всего, заручились бы в захваченной Украине, особенно в её западных областях, поддержкой той значительной части населения, которая хотела и ждала возможности избавиться от советской власти, а таких людей было очень немало. Думаю, что в этом случае ход войны мог бы быть совсем другим и трудно сказать, сколько бы еще сил и крови пришлось бы пролить советскому народу, чтобы добиться победы над гитлеровской Германией.
Но уровень и масштабы фашистской жестокости по отношению к мирному населению были столь велики, что даже та часть населения Украины и Белоруссии, которая с надеждой встречала немецкие войска в первые месяцы оккупации, полагая, что, уничтожив коммунистов и евреев, немцы позволят зажить им спокойной жизнью как в прежние времена, поняла к своему ужасу, что они глубоко ошиблись. Единственным шансом не погибнуть от рук фашистов, либо не попасть в советские лагеря за сотрудничество с оккупантами стал уход в партизанские отряды, которых на Украине и Белоруссии действовало очень много, но, конечно, не эта часть населения составляла костяк этих отрядов. Партизаны действовали очень эффективно, доставляя немцам большие проблемы, особенно за счет диверсий на железной дороге, пуская под откос эшелоны с военной техникой и живой силой, ликвидируя высокопоставленных нацистских военных. В состав этих формирований, насчитывавших в себе многие тысячи партизан, входили и отряды, где большую часть партизан составляли только евреи — беглецы из еврейских гетто или концентрационных лагерей, а также жители небольших городков и местечек, самостоятельно формировавшие группы сопротивления. Одной из причин этого, как это ни парадоксально звучит, были проявления в партизанских отрядах антисемитизма и, как выяснилось гораздо позднее, в перестроечные годы не на пустом месте.
«Осенью 1942 года 1-й секретарь ЦК КП Белоруссии, начальник Центрального штаба партизанского движения, П.К. Пономаренко направил командирам партизанских формирований радиограмму, запрещавшую принимать в отряды людей, бежавших из Минска, якобы потому, что среди них могут оказаться немецкие шпионы. Видимо, не случайно именно под Минском было создано восемь еврейских партизанских отрядов, так как узникам, бежавшим из гетто, вступить в действующие партизанские отряды было проблематично».
Это цитата из книги воспоминаний «Жизнь моя, иль ты приснилась мне», написанная Юлием Айзенштатом, который подростком бежал из гетто, устроенного немцами в белорусском местечке Глуск, добрался до партизанского отряда «Красный Октябрь», располагавшийся в глухих лесах Полесья и несколько лет был, фактически, «сыном отряда партизан», выполняя все поручения, которые давались мальчишке 1930 года рождения: пас коров, отвечал за лошадей, был связным между другими партизанскими группами, доставлял в городки и местечки газету, которую печатали в лесной типографии.
Таких мальчишек, «сыновей полков и партизанских отрядов», было во время войны очень много, но я решил упомянуть в моих записках именно об Юлике Айзенштате, т.к. жизнь свела нас неожиданно с ним в чешском городке Марианские-Лазне, где он со своей женой, и мы с Викой отдыхали в 2017 году. Приветливый и энергичный в свои 87 лет, он уже в первый день нашего знакомства упомянул, что во время войны был в партизанском отряде, многое пережил и испытал, и написал об этом книгу воспоминаний. Мы общались с ним недели полторы и каждый день я засыпал его вопросами о тех годах и событиях, участником которых он был, мне это было крайне интересно. Информация из первых рук, нет ничего ценнее. Нет возможности в этих записках познакомить вас подробно с его рассказами или, тем более, с содержанием этой удивительно книги, читать которую без волнения невозможно, поэтому ограничусь двумя цитатами — первая из предисловия к ней, которую написал американский писатель и журналист Давид Гай.
«Юлий Айзенштат все вынес на своих детских плечах – и гетто, и пребывание в партизанском отряде “Красный Октябрь”, и расстрел в мартовском болоте.
На болоте с рыхлым снегом скрывались шестеро партизан, и Юлий в их числе, оружие было не у всех, и звучали отрывистые, как лай, автоматные очереди, когда два десятка немцев методично расстреливали шестерых. Юлию повезло, смерть заглянула ему в лицо и прошла мимо: немец ранил его в руку и не дострелил, предпочтя этапировать в концлагерь Озаричи. Там узников, в особенности детей, специально заражали тифом, чтобы эпидемия распространилась на жителей окрестных деревень и советских солдат, освобождавших этот район Белоруссии. Айзенштат чудом выжил, получил высшее образование, стал известным в Минске инженером, отцом четверых детей».
А вторая цитата — это слова самого Юлика:
«Садизм, вандализм, варварство нелюдей, беззащитность моих соплеменников, безысходность нашего положения потрясли, вывернули наизнанку мою детскую душу. Не столько осмыслив сознанием, сколько почувствовав сердцем, я уяснил для себя: пощады нам, евреям, не будет и что в любой, самой кошмарной ситуации надо не терять самообладания и присутствия духа, искать пути для спасения. В августе 41-го окончилось моё детство…
…Среди расстрелянных в карьере на Мыслочанской горе в тот морозный день 2-го декабря 1941 г. находились самые дорогие и близкие мне люди. Так в одночасье трагически закончилась многовековая история евреев Глуска. Их как будто здесь вовсе не было, будто они здесь и не жили. Пользуясь немецкой терминологией, Глуск стал свободным от евреев – “Judenfrei”. Всего в Глуске было расстреляно около 3000 евреев. Спаслись не более 60-70 человек».
Еврейские партизаны были наиболее многочисленны в Белоруссии и в Восточной Европе, но группы также существовали в оккупированной Франции и Бельгии, где они сотрудничали с местным движением сопротивления. Многие отдельные еврейские бойцы участвовали в других партизанских движениях в других оккупированных странах. В целом, количество еврейских партизан составляло от 20 000 до 30 000 человек. Литературы, посвященной участию евреев в партизанском движении, к сожалению, мало, но в Интернете можно найти много публикаций об этих отрядах и об отдельных бойцах, командирах, разведчиках и радистах, внесших существенный вклад в борьбу с фашистами, но незаслуженно забытых в наше время.
29. Как страшный сон
Прошел год. Постепенно, не сразу опустели магазины, и большинство из них закрылось, рестораны и кафе поснимали вывески и рекламу, исчезли, растворились в одесских переулках и дворах предприниматели, не успевшие уехать, не действовал городской транспорт и электростанции, одесский порт лежал в руинах.
Александру Верту довелось приехать в Одессу через год, в марте 1945 года: «Положение с продовольствием было тяжелым даже в гостинице «Лондон», и Одесса выглядела голодной, намного похудевшей по сравнению с 1944 годом. Автобусы и трамваи по-прежнему не ходили, а рынок имел нищенский вид. Бандитизм стал обычным явлением. С наступлением темноты на улицах появлялись подозрительные субъекты, и ни одна ночь не обходилась без грабежей и убийств. Уж не пользовались ли теперь они катакомбами, чтобы ускользнуть от советской милиции?»
Тогда же, в марте 1945 г., в Одессе побывала журналистка Ирина Эренбург, дочь знаменитого писателя и публициста. По возвращении в Москву она записала 30 марта 1945 года по свежей памяти впечатления о поездке:
«Одессу я заочно любила: она была так хорошо описана, да и много моих знакомых писателей были родом из нее. Город оказался совсем другим, чем я его себе представляла. На вокзале — нет вокзала. Встречающие плачут, истерически кричат: «Ой, Женя, Женя!» На площади бублики, семечки и извозчики!
Дул холодный ветер, море неприветливо. Мертвый порт, темные улицы, электростанция взорвана, всюду очереди. Веселое беспечное население недовольно приходом советских войск: при румынах — частная торговля, было полно товаров, а какая мануфактура! Евреев они, правда, расстреляли, но сделали это под нажимом немца, а сами никому зла не желали. И за хлебом не надо было стоять в очередях».
Очевидно, антисоветские настроения многих одесситов были заметны не только заезжей московской журналистке. Возможно, соображения Александра Верта о том, что Одессу «наказывали» за сравнительно легкую жизнь при оккупантах, не лишены оснований. Его удивило, что «Одессу почти совсем не восстанавливают, и что условия жизни здесь были и в общем более тяжелыми, чем во многих других освобожденных городах. Быть может, Одессу косвенно наказывают за ту сравнительно легкую жизнь, какая ей досталась в бытность столицей Транснистрии, и за ту поспешность, с какой столь многие ее жители вошли во вкус ночных клубов, бодег и спекуляции на черном рынке? Не потому, что были действительно не лояльны, а скорее из-за своей легкомысленной, врожденной любви к мелкому бизнесу».
Однако на протяжении нескольких лет после войны чувствовалось, что Одесса была в немилости у Москвы и в списке городов, подлежащих восстановлению, занимала одно из последних мест.
То, что Одесса имела запущенный вид, стены домов были со следами артиллерийских обстрелов, многие окна забиты фанерой, а в большинстве домов не действовал водопровод, заметил в 1948 году даже я, хотя мне было только пять лет, но многие картинки той Одессы врезались в мою память на всю жизнь. Первый раз после войны мы приехали в 1946 году, т.к. эта дата была проставлена на фотографии моей мамы, сделанной где-то в городе. Тех летних месяцев я конечно, не помню, но последующие поездки с 1948 по 1951 годы помню хорошо. Мы приезжали к папиным родителям — моей бабушке Анне Яковлевне и дедушке Якову Ефимовичу, правда не родному, т.к. он был отчимом моему отцу. Они вернулись из эвакуации вместе со своей внучкой Мариной, чья мама, бабушкина дочка Роза, умерла в Уфе, когда девочке было два года, и бабушка её удочерила, о чем, ни я, ни сама Марина не знали лет до двенадцати.
Трамваи еще не ходили или их было так мало, что влезть в них было невозможно, особенно с вещами, поэтому от вокзала до дома мы добирались на извозчике, в красивом, открытом черном экипаже, с откидывающимися сидениями, хотя до Книжного переулка дом 7 от вокзала было рукой подать. Электричество часто отключали, и вечерами мы обедали при свете карбидной лампы, которая давала яркий свет, но от неё исходил очень неприятный, невкусный запах. Яков Ефимович был по профессии водопроводчик и жестянщик, наверное, поэтому в квартире водопровод работал, хотя воду давали несколько часов в сутки, а в остальном доме воды не было, мыли посуду и стирали во дворе около колонки. Мусорный бак, «смитник» по-украински, находился рядом, также, как и дощатая уборная, они издавали жуткий запах, к которому, правда, быстро привыкали.
Город, особенно район, прилегающий к Привозу, а мы жили совсем рядом, был заставлен ларьками, будочкам и небольшими дощатыми сарайчиками, в которых что-то продавали, покупали и ремонтировали все на свете, но чаще всего примусы — основную кухонную принадлежность каждой одесской семьи. Проходя по улицам, всегда, в любое время суток, можно было слышать их гудение. Чтобы они правильно и безопасно работали, надо было грамотно их накачивать и разжигать, что не все умели, и иногда их гудение кончалось взрывом. На улицах, покрытых мусором и лошадиным навозом, было много инвалидов, передвигающихся на костылях с протезами, вытесанными из обыкновенных бревен, и нищих, как правило женщин, сидящих прямо на дороге с младенцем на руках. Стайки подростков, одетых в поношенную военную форму, слонялись на базаре вдоль прилавков, стреляя глазами в разные стороны. Запомнился приторный запах ирисок, которые варили кустарным образом и продавали целыми пластами, завернутыми в обрывки газет. Они были настолько вязкими, что при попытке откусить их зубы склеивались намертво.
Хорошо помню, как мы шли с папой по улице, наверное, Дерибасовской, он крепко держал меня за руку, но через каждые 50-100 метров кто-нибудь окликал: «Исаак, это ты?» Мы останавливались, к нему подходили какие-то мужчины, хлопали по спине и крепко его обнимали. О чем они говорили, конечно, не помню, мне было жарко, хотелось пить и, возможно, писать, но папа был увлечен встречей с друзьями, которых не видел, наверное, лет 10 и, очевидно, забывал обо мне, хотя держал за руку крепко. Несколько раз мы спускались в полутемные и прохладные подвальчики, где стояли огромные бочки с вином, и разговоры продолжались уже там за стаканом вина, очевидно, это были те самые бывшие румынские «бодеги».
Потом мы поднимались наверх и продолжали идти по залитой солнцем улице. Мы шли по старым, как сама Одесса, затёртым до блеска каменным плитам, на поверхности которых опытные криминалисты наверняка могли бы обнаружить следы крови и частицы подошв тысяч евреев, которых румынские солдаты гнали на смерть по этим улицам всего семь лет тому назад. А вокруг шли одесситы, многие из которых видели эти процессии и, наверное, еще помнили крики этих несчастных людей, но страстно желали забыть их.
В 1954 году Одессе было присвоено звание города-героя, а через 20 лет за мужество и героизм, проявленные трудящимся города в борьбе с немецкими захватчиками, она была награждена медалью «Золотая звезда». Перечисляя в голове другие города-герои, такие, как Ленинград, Севастополь, Сталинград, невозможно отделаться от досадного ощущения, что Одесса, моя любимая и многострадальная Одесса, попала в этот ряд незаслуженно, а её «героизм» пополнил ряд мифов, рожденных в кабинетах советских партийных идеологов или в павильонах киностудий, где гениальные советские кинорежиссеры снимали свои мировые шедевры о революции и войне, имевшие мало общего с реальными историческими событиями. Думаю, что ленинградцы, выдержавшие 900-дневную блокаду, севастопольцы, оборонявшие город 250 дней и сталинградцы, не покинувшие руины города и внесшие свой вклад в разгром немецких войск, могли бы разделить мои крамольные мысли.
30. Рухнувшие надежды
Никакой информации о судьбе родственников, кроме того, что они не эвакуировались и, скорее всего, остались в оккупированной Одессе, у мамы не было вплоть до лета 1944 года. Что остались — известно из письма папиной мамы, Анны Яковлевны, полученного в конце 1941 года, в котором она написала уже из Уфы, что приходила в августе в квартиру на Екатерининской улице к маминым родителям, предлагала уехать вместе, но Марк Абрамович отказался. Информация о том, как поступали фашисты с еврейским населением на захваченных советских территориях, конечно, просачивалась, но о массовом и зверском уничтожении евреев в газетах и по радио не сообщали. Поэтому, несмотря на то, что все годы оккупации Одессы мама прожила в тревожной неизвестности, какая-то мизерная надежда, что они живы, в душе теплилась.
О судьбе родителей, тети и двоюродной сестры маме стало известно из писем, которые она получила от своей близкой подруги Тамары и двоюродного брата Бориса в 1944 году. Об этих письмах мама мне никогда не рассказывала, и об их существовании я не знал. И только после маминой смерти, разбирая её документы, я обнаружил письмо Тамары. Из её письма можно понять, что она первой приехала в Одессу, пришла в дом на Екатерининской улице и по следам написала маме, поэтому приведу его здесь почти полностью.
г. Одесса 10/Vll-44 г.
Дорогая моя незабываемая Нонушка!
И снова я в Одессе, там, где прошли наши золотые невозвратные денечки. 22 июня мы приехали, и прямо с Одессы-товарной я пошла к Вам домой, заранее предвкушая радость встречи с твоими, которые, как я писала, должны были быть в Одессе. Я почти не чувствовала величину расстояния, так была возбуждена по пути. Много ран нанесено самым красивым домам и, несмотря на то, что они все снаружи залечены, они не ушли от моего взора. Если бы ты попала в город в несолнечную погоду, тебя особенно поразила бы ободранность домов из-за давнего ремонта. И все в целом производит жалкое впечатление. Но говорят, что по сравнению с многими городами, бывшими в оккупации у немцев, Одесса очень сохранилась.
По дороге я не встретила ни одного знакомого лица. Зайдя к Вам во двор, я на минуту забыла, что прошло три тяжелых года, так много унесших. Мне хотелось по привычке помахать тебе и увидеть твою привычную фигурку на балконе. Подняв голову кверху, я увидела вашу квартиру, распахнутый балкон и окна, вырванные рамы. Затем я спросила, где же Рутенштейны, и услышала страшную истину, которую рассказала мне, внезапно подошедшая, кажется бывшая Ваша домработница, некрасивая такая, чуть косая. У неё была маленькая девочка перед войной, которую Сока часто брала играться. Знаешь кто? И кроме того дополнила старшая из сестер, уже превратившаяся в интересную, но румынского образца девицу, которые жили над Любовскими. Я не хочу это от тебя скрывать, что прежде всего следую твоей просьбе рассказать всю правду, ту которую ты рано или поздно узнала бы сама, ту, к которой ты себя часто подготовляла в течении всех этих военных лет. Мне тяжело писать, вот причина, из-за которой я тебе так долго ничего не писала.
Собери силы и послушай: Спустя 7 дней после прихода немцев все евреи должны были пройти регистрацию. Вскоре после этого они были в числе колоссального количества собраны и угнаны в так называемое гетто, это было уже в зимнее время, как говорят жители, в небывалый до сих пор мороз. Манюшка больше всех плакала, особенно всем было жалко Тикаму, её хотели спрятать соседи, но мама не решилась оставить её у чужих в такое страшное время.
Всех погнали на Романевку (?), я не хочу сгущать краски и описывать все происходящее в дороге, скажу тебе, что кровь стынет в жилах и мороз бежит по коже, когда слышишь подробности. По дороге умерла Манюша за что-то сказанное в тоне протеста. Тикамочка тоже умерла в дороге от дизентерии, погиб там и папа. Затем говорят, что кто-то из соседей видел маму, седую, полуслепую, в мешке, голодную в какой-то деревне, она умоляла принести ей что-нибудь из вещей, но никто её просьбу не выполнил и больше о ней ничего не слышали…
…… Как устроиться в дальнейшем не знаю. В Одессе нет ни малейшего желания жить. Представляешь, она сейчас совершенно чужая, город спекулянтов и проституток, зараженных всякой дрянью. Еще много пройдет времени пока он очистится от этой нечисти. При немцах здесь особый размах приняла торговля, и это еще очень бросается в глаза, когда выйдешь на базар, просто даже своим глазам не веришь, я за время войны еще ничего подобного не видела, но цены очень растут и все уже недоступно. Так что дорогая, пусть остынет твой пыл приезда в Одессу, ничего хорошего здесь нет. Через некоторое время Ленинград снова будет передовым и культурным центром, а в Одессе будет по-прежнему тяжело жить. Как жаль, что никого нет из близких, все кто остались, в большинстве своем евреи, убиты и замучены, для нас Одесса сейчас кладбище…».
Если вспомнить, что указание об организации окончательного изгнания евреев из Одессы И. Антонеску издал в конце декабря, а гнали их в гетто, как пишет Тамара по морозу, значит, что в первую волну массовых расстрелов они не попали и были живы еще до начала 1942 года.
Борис появился в Одессе тоже летом, немного позже Тамары, но в разговоре с соседями по дому ему удалось выяснить о судьбе родных больше, чем ей. Прежде, чем поместить его воспоминания об этом, надо сказать, что после освобождения Одессы въезд в неё очень долго был возможен только по пропускам или по вызовам, которые, в первую очередь, получали жители с одесской пропиской либо рабочие, специалисты, студенты. Как и в связи с чем приехал Борис в Одессу, будет понятно из его воспоминаний, которые он написал в 1998 году, которые начинаются с момента приезда с его мамой в 1942 году в Чебаркуль, куда они попали после блокады.
«Немного окрепнув, мы с мамой из города Буя в марте 1942 года добрались до города Чебаркуля в Челябинской обл. Пока мы ехали нас кормили, мыли, спасали от вшей по всему пути.
В Чебаркуле я поступил на авиаремонтный завод учеником токаря. Профессией овладел быстро и уже через полгода, взялся за большой и трудный заказ. «Обстановка» меняется. Я уже рабочий, вставший на стахановскую вахту «Все для фронта, все для Победы». Уже на стене в цеху и в многотиражке призывы брать примеры с этого токаря. Девять суток я не выхожу с завода. Сплю урывками около станка. Заказ выполнен. Получил пачку папирос и пол-литра коричневой водки. Проспал больше суток. Началась работа. Стали давать работы 6-7 разряда. Выгнал такой процент, что дали карточку на 1 кг хлеба в день. Все сильней и сильней грызло чувство, что я не на месте. Комсомолец. В оккупированной Одессе сестричка и родичи, в моем городе, в котором я родился. Меня голодом выкурили из Ленинграда, а я спрятался в тылу. Может так, а может и не так, но спокойствия у меня не было. Между тем, уже наступил 1944 год, мне уже 18 лет, папу освободили, приехал, работает в Миассе на автозаводе в литейном цеху. В апреле 1944 года освобождают Одессу. Я пишу в среднюю мореходку с просьбой вызвать на экзамены. Как это не звучит фантастически, но уже летом 44 года мне пришел вызов.
С большим трудом увольняюсь с завода и через полстраны добираюсь до Одессы. Оформляюсь в общежитии мореходки и в первую очередь иду на Екатерининскую 2 в квартиру №41.
Пришел, флигель разбит бомбой до самого подвала. По парадной не подняться, только по черному ходу. Квартира пустая, т.е. только мусор и обломки. В квартире подняты полы, вынуты изразцы из печки. Куб для воды разобран. Четко видно, что искали ценности. Помнили, что твой дед ювелир. В куче мусора нашел несколько фотографий и старых писем. Во дворе встречаю свою сверстницу, которая была во время оккупации все время. Она рассказала, что после попадания бомбы, дома ночевал только твой дед, остальные жили на первом этаже в квартире Хостов. В одну из бомбежек у ворот дежурили бабушка твоя, с ней была Маргаритка и её ранило в руку, а бабушку контузило. Манюшка, тётка твоей мамы, умоляла уехать из города, но дед не хотел, планировал прожить так, как прожил в первую мировую войну.
Если верить Тамаре, маминой подруге, то она приносила пропуск и билеты на всю семью для эвакуации на пароходе. Как я уже говорил, дед не хотел уезжать, а женщины не могли очевидно без него. Что принесла бы эта эвакуация неизвестно, большинство пароходов фрицы потопили
У папы был приятель, он же был дружен и с дедом твоим, Аким-сапожник де-юро и контрабандист де-факто. У него было четыре дочери. Он пришел и просил отдать ему Маргаритку, среди четырех армянок спрячется. Не отдали естественно. Когда уже выгоняли евреев во двор, Маргаритка убежала к няньке, но тетка, твоя бабушка забрала её. А Маргаритка няньке говорила: «Все равно братик меня спасет». Я знаю абсолютно точно, что это выдумать нянька не могла. Это были слова Маргаритки, продиктованные нашей предыдущей жизнью, моим поведением и нашими отношениями до войны. И эта фраза мне не дает спокойно жить до сих пор, я виноват перед ней, ведь я действительно это ей всегда обещал, даже в детских играх.
И вот стали евреев выгонять из квартир, из домов, из дворов на улицу и по ней гнали. Когда пришли за нашими, дядька, твой дед стал сбрасывать продукты с балкона, у него был приличный запас, он уже был вне себя.
Узнать точную правду о последних днях Маргаритки, Манюшки, дяди Маркуши и тети Соки не представилось возможным. Все говорили разное, я стараюсь писать о том, что наиболее правдоподобно. Многое мог бы рассказать муж моей няньки, но его в ночь освобождения Одессы убили в подъезде.
На Дальнике, куда согнали евреев, житель того же дома по Екатерининской 2, борец, не помню фамилию, задушил Манюшку, вырвал зубы золотые, взял серьги и еще что-то. Подкупил румын и убежал. Остался жив. Я пришел к нему, он в квартиру не пустил и разговаривать отказался. Вера, домработница А. Бродского рассказала, что видела твою бабушку в селе Красное, это на полпути в Николаев. Её вел полицай, она была без глаза, в каком-то мешке, в струпьях. Она Веру узнала и сказала» «принеси мне какие-нибудь платья, ведь там у меня осталось столько вещей». Выдумала это Вера или нет, кто знает. На мой вопрос- возила ли платье, ответила да, но не застала там никого.
В тех местах в то время Госкомиссия вела вскрытия захоронений, и я поехал, но после того как я там упал в обморок около одной из могил, уехал. Опознать там что-либо было невозможно.
В том же доме жила семья Гнесиных. У них было два сына. Сергей–сверстник Левы и Николай, старше меня и моложе Нонушки. Я пошел к ним, мать дружила когда-то с моей мамой. Она мне сказала, что Николай ушел с немцами, а Сергей пришел с армией, он «гепеушник», т.е. чекист. Я его видел, рассказал все, особенно о борце. Он сказал, что в Одессе разбираться хватит на много лет: от моего случая до случая с чемпионом СССР по боксу Загоруйченко Олегом.
В семье Борисевичей видел вещи бабушки и дедушки и, в первую очередь, это была статуэтка змеи для карманных часов. У прачки Елены тоже масса вещей. У домработницы А. Бродского тоже самое, т.е. все бывшие друзья-соседи квартиру разграбили.
Что было в голове в тот момент, я не помню, но сейчас мне представляется, что решил: учебу потом, а сейчас на фронт. Всё время буравила мысль о том, как буду смотреть в глаза людям, не был на фронте, отсиживался в тылу – значит правду говорят о трусости евреев. Вот после трехнедельного пребывания в Одессе и последовало то, что долго зрело — ушел на фронт. Перед этим написал твоей маме, где и что видел, у кого что есть из известных вещей семьи».
Вот такие два письма получила мама летом 1944 года. Ей было 24 года, возраст, когда потеря родителей вызывает сильнейшую боль в сердце и ноющую тоску в душе. Потом, когда я уже учился в школе, она мне часто и много рассказывала про дом и родителей, но никогда о своих переживаниях и боли, они были спрятаны у неё где-то очень глубоко.
Обстоятельства смерти маминых родителей, Манюшки и Тикамы, рассказанные Тамарой и Борисом разнятся, но не в этом суть. Очевидно только одно, умерли они мучительно, претерпев длительные страдания, унижения, страх, отчаяние и беспомощность. Можно еще раз посетовать на заблуждения и «дремучесть» деда и нерешительность бабушки, которые не распознали руки Бога, которую он протягивал к ним, когда Тамара принесла билеты на пароход, когда папина мама предлагали им вместе уйти пешком из Одессы, когда приятель деда Аким хотел забрать Маргаритку к себе в армянскую семью и, наконец, уже в последнюю минуту, когда их уже выгнали во двор и няня Маргаритки взяла её за руку и хотела увести её к себе в русскую семью, а они эти шансы отвергли. Что сказать? Не мне их судить и винить. Они сполна расплатились за свои ошибки.
К моменту освобождения Одессы практичные румыны оставили в живых несколько десятков евреев, которые, благодаря их различным профессиональным качествам, были полезны оккупантам. Уничтожая евреев, румынская администрации одновременно вводила изменения в домовые книги, с указанием точного адреса проживания, полного состава семьи, пола, возраста владельца квартиры.
В сборнике «Холокост в Одессе» (стр.311. глава 2) помещен документ «Еврейское население на оккупированной территории Одессы и Одесского региона. (Дело15)», в котором приведены таблицы с перечнем жильцов домов по Екатерининской улице. В одной из таблиц имеется графа: «Ул. Екатерининская, дом 2». На конец 1941 года в нем перечислены евреи, проживавшие только в двух квартирах: № 6 и №12 в, всего 9 человек от 12 до 65 лет. Причем в квартире №12 в указан Милимовка Геня, фамилию и имя которого часто в детстве слышал от мамы и Бориса, обычно его упоминали, когда хотели обратить мое внимание на мою плохую дикцию. Каким-то образом эти евреи в конце года оставались еще жить в своих квартирах, а семьи моей мамы к этому времени уже в доме не было. Как видно, румыны вели учет жильцов скрупулезно.
Я уже писал, что первый раз родители вместе со мной приехали в Одессу летом 1946 года. Знаю, что мама заходила в свой дом, поднималась в квартиру, она была вся разгромлена и полна мусора, среди которого она нашла вот эту свою фотографию, провалявшуюся там почти пять лет, разговаривала с соседями, и они отдали ей несколько вещей: пару вазочек и пару кашпо, которые теперь висят на стене нашей квартиры. Насколько я знаю, больше она в свой двор никогда не заходила. Я пришел туда в 1983 году, а Миша был в нём в 2004 году.
Ни он, ни я ничего там не почувствовали, ничего не напоминало о трагических событиях, которые там произошли. Весь двор был закатан асфальтом, надежно прикрывшим следы сапог румынских солдат, все жильцы — новые, незнающие и неподозревающие о том, что происходило в их доме осенью 1941 года. В квартире №41 на четвертом этаже флигеля появился второй балкон, очевидно, она была полностью перестроена. Недавно, путешествуя в Интернете по Одессе, выяснил, что в этом флигеле теперь устроена гостиница. Надеюсь, что её постояльцев по ночам кошмары не мучают.
Снились ли после окончания войны кошмары румынскому руководству и, прежде всего, офицерам, солдатам и полицейским, кто с такой яростью и изобретательностью уничтожал евреев, или они были стерты из памяти также легко и быстро, как сама Румыния в 1947 году, конечно, не без участия и помощи СССР превратилась из Королевства в Социалистическую Республику?
В литературе о годах оккупации Одессы румынами проскальзывает мнение, что румыны не были столь последовательны в истреблении евреев, как немцы. До некоторой степени это так, но лишь до некоторой степени.
О зоологическом антисемитизме Антонеску, сравнимом только с ненавистью к евреям Гитлера, и о зверствах румынских войск по отношению к еврейскому населению Бессарабии написано много книг и имеется масса документов, приведенных в частности в сборнике «Холокост в Одесском регионе», изданным мизерным тиражом в Одессе, который читать без содрогания невозможно. Можно только добавить, что абсолютным большинством расстрелянных, сожженных после взрыва румынской комендатуры 22 октября 1941 года были именно бессарабские евреи, не успевшие эвакуироваться из Одессы. Звериная жестокость, с которой уничтожались люди, восходит к самым мрачным временам инквизиции и, наверное, даже превосходила её.
В материалах Одесской областной и Чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений гитлеровских войск, опубликованных в том же сборнике, приводится таблица, в которой перечисляются способы, каким образом было умерщвлено румынскими фашистами тысячи евреев в Ворошиловском районе Одессы: «расстреляно, повешено, сожжено на кострах, заморожено, утоплено, закопано в землю живыми, умерло от голода, погибло в результате бомбардировок, угнано в рабство, замучено, забито, и прочее».
Окончательно решение еврейского вопроса» в его румынском исполнении наталкивалось, в отличие от их немецких единомышленников, на неподготовленность палачей, бывшими в своей массе непрофессионалами в этом деле, и на крайне низкую «производительность». В самом деле, уничтожить 6 млн. человек такими кустарными методами было, конечно, крайне затруднительно, тут были необходимы другие «технологии. Эту проблему с успехом решили фашисты.
31. Как быстро и эффективно уничтожить 6 миллионов человек
За все время, пока нацисты были у власти, они, помимо других народов и национальностей, уничтожили 6 млн. евреев, делая это целенаправленно, не давая ни одному человеку этой национальности шанса на жизнь. «Окончательное решение еврейского вопроса» предусматривало полное их истребление как нации. Шесть миллионов человек, представьте себе это число, это очень много. Как же они это сумели сделать?
С приходом в 1933 году к власти в Германии Адольфа Гитлера антисемитизм стал краеугольным камнем в его политике. Антисемитизм переполнял его мозг, сознание, сердце и душу, постепенно переходя от нематериальной ненависти к абсолютно конкретной материальной реализации, целями которой сначала было выдворение евреев из всех сфер жизни немецкого народа, затем выдворение евреев с территории «жизненного пространства» немецкого народа, а затем и полное истребление евреев как нации, которое стало называться «окончательное решение еврейского вопроса».
Чем было вызвана это маниакальная, зоологическая ненависть к евреям непонятно и необъяснимо, т.к. в Германии в течение многих десятков лет проживали сотни тысяч евреев, огромное количество которых составили честь и славу Германии. Среди них были гениальные поэты, писатели и композиторы, ученые с мировым именем, генералы, герои всех войн, которые вела Германия, крупные промышленники и государственные деятели. Казалось бы, в немецком обществе, свободном, в начале 20-х годов, от национальной и религиозной нетерпимости, трудно было разжечь ненависть к достаточно большой части своего же народа, не самой плохой его части.
Германия к началу 30-х годов еще только-только выкарабкивалась из жесточайшего кризиса после поражения в Первой мировой войне, унизительного Версальского договора, по которому Германия, практически лишалась армии и должна была выплачивать огромные репарации странам победителям. Безграмотные экономические действия руководителей «демократической» Веймарской республики, возникшей в Германии после окончания войны, привели к колоссальной инфляции, нехватке продовольствия и безработице. Вернувшиеся с войны, униженные поражением ветераны, типа Гитлера, собирались в Мюнхенских пивных, распаляя себя пивом и поиском виновных. Все это было прекрасной почвой для возникновения нацизма.
Виновных нашли быстро — коммунистов, которые тоже в это время усилили своё влияние, и состоятельных немцев, которые несмотря на кризис и разруху сумели «набить свои карманы» деньгами. В категорию богатых и состоятельных проще всего было записать ближайших соседей по улице — владельцев магазинов, лавочек, кафе, зубных врачей и парикмахерских, среди которых было много… — кого? Правильно, евреев. Дальше было дело техники, т.е. распространение слухов, публикация оскорбительных статей в газетах, злобные выступления на митингах. Промывка мозгов обывателей шла успешно, и после прихода Гитлера к власти общество было уже готово к более радикальным действиям нацистов. В 1935 году году были приняты «Закон о гражданстве рейха» и «Закон об охране германской крови и германской чести», запрещающие евреям создавать семью с «арийцами». Затем начались увольнения с работы, исключения студентов из университетов, сожжение на площадях книг немецких писателей еврейского происхождения и т.д., но настоящим началом «окончательного решения еврейского вопроса» стала «Хрустальная ночь» в ноябре 1938 году, когда в Берлине и других городах Германии были разбиты окна, витрины и разгромлены тысячи магазинов, сожжены десятки синагог и убиты первые сотни евреев.
Поводом для погромов стала смерть одного из рядовых секретарей посольства Германии в Париже. По требованию Гитлера, еще в феврале 1938 года службами гестапо был найден и подготовлен к проведению провокации некий Гершель Гришпан, польский еврей, который 7 ноября заявился в германское посольство и несколько раз выстрелил в первого попавшегося ему на глаза сотрудника. Раны оказались не смертельные, но прибывший в Париж личный врач Гитлера «помог» отправиться Эрнсту фон Рату на тот свет, и уже 9 ноября Геббельс заявил следующее:
«Национал-социалистическая партия не унизится до организации выступлений против евреев. Но если на врагов рейха обрушится волна народного негодования, то ни полиция, ни армия не будет вмешиваться».
«Народное негодование» обрушилось, как по заказу. Большинство рядовых немцев остались равнодушны к последствиям погромов. Подобная реакция народа полностью развязала руки нацистов, опасавшихся протестов тех, кто был в смешанных браках. Расправа, насилие и массовые убийства стали рядовыми событиями. Параллельно этому для «очищения от евреев жизненного пространства Германии на законных основаниях» в 1939 году в Берлине было основано «Имперское Центральное бюро еврейской эмиграции», которое должно было обеспечить массовую эмиграцию евреев в другие государства, что придавало видимость «гуманности» процессу выдворения евреев из Германии, а заодно давало возможность прилично заработать на этом, т.к. евреи должны были платить большие деньги за право на выезд.
Вообще, эмиграция евреев из Германии и Австрии началась еще в 1933 году, многие образованные и проницательные люди, быстро разобравшиеся в нацистской идеологии и её конечных целях, покинули свои страны, пока это было возможно. В общей сложности из Германии и Австрии с 1933-й по 1939-й годы эмигрировало около 400 000 тыс. евреев. Спастись могло бы и большее количество, если бы государства, принимавшие беженцев, не стали чинить различные препятствия: повышать плату за визы, увеличивать сроки оформления документов, уменьшать число пароходов, сокращать, а потом и вовсе отменять иммиграционные квоты. Известны случаи вопиющего безразличия и жестокости к судьбам евреев, когда корабли, уже прибывшие в пункты назначения, по распоряжению правительства не впускали в порты, разворачивали и вынуждали возвращаться в Германию, где их пассажиров тут же отправляли в лагеря смерти. В концлагеря попали и погибли в них большинство тех, кто успел ранее уехать во Францию, Бельгию, Нидерланды, позднее оккупированные Германией.
Справедливости ради надо сказать, что желание выдворить евреев из европейских стран куда-нибудь подальше, занимало воспаленные умы антисемитов в некоторых странах Европы даже раньше, чем в Германии, причем наиболее активные из них были членами правительств и парламентов этих стран. Еще в начале века в этих кругах рассматривался план переселения евреев в африканскую Уганду, а чуть позже появился вариант с островом Мадагаскар, принадлежащим в то время Франции. Однако, более реально стала планироваться нацистами депортация туда всех евреев после оккупации в 1940 году Франции. Передача Мадагаскара для этих целей стала одним из условий капитуляции Франции. Перевозить евреев немцы собирались на завоеванных британских судах, однако, они так и не смогли нанести поражение британским военно-воздушным силам, и немецкое вторжение в Великобританию не состоялось. План «Мадагаскар» зашел в тупик.
Известно, что в 1939-40-х годах германское правительство вело переговоры со Сталиным о возможности переселения немецких евреев в СССР, но предложение было отвергнуто. Очевидно, что Сталин еще не успел «переварить» миллионы людей прибалтийских стран, Западной Украины и Бессарабии, вошедших в то время в состав СССР.
С началом в сентябре 1939 года Второй мировой войны эмиграция евреев была полностью прекращена, сменившись планомерным выдворением евреев сначала в гетто, а затем в концентрационные лагеря, в которых началась практическая фаза «окончательного решения еврейского вопроса», т.е. полного физического уничтожения. «Процесс пошел», — помимо того, что тысячи евреев начали умирать в гетто от болезней, голода, холода, каторжных условий работы, начались, особенно на захваченных территориях, массовые расстрелы десятков и сотен тысяч евреев, которые получили название «акции», для чего были созданы специальные немецкие части, занимавшиеся только уничтожением людей, конечно, не только евреев, но и миллионов людей других национальностей.
Надо сказать, что в процесс истребления евреев активно включилось и население оккупированных стран: западных частей Украины, Польши, Литвы, в которых скрытый антисемитизм был распространен еще задолго до этой войны и ждал своего часа. Если в европейских странах уничтожение евреев немцы пытались хоть как-то маскировать, то на захваченных советских территориях «акции» были открыто демонстративными и принимали невероятный размах. В течение одной «акции» уничтожалось одновременно до нескольких десятков тысяч человек. Многие места расстрелов стали впоследствии известны всему миру: «Бабий Яр» в Киеве, «Понары» в Вильнюсе, «Малый Тростинец» в Минске и многие другие. Активное участие в этих акциях принимало и местное население. Так из 1500 карателей, расстреливавших киевлян в Бабьем Яру, 1200 были украинские полицаи.
Очевидно темпы уничтожения евреев не устраивали нацистское руководство, поэтому по их заданию талантливые немецкие инженеры и ученые стали разрабатывать другие методы и технологии массового убийства людей. Первыми новый способ умерщвления людей предложили ученые Института криминалистической техники. Метод был простой и эффективный: обреченных на смерть людей помещали в герметичный кузов автомобиля, в который заводился шланг от выхлопной трубы. Пока автомобиль шел от места сбора людей до места захоронения, люди успевали умереть от угарного газа. Работа двигалась успешно, и уже в конце 1939 года сотни машин смерти — «газенвагены» начали разъезжать по территории Польши. Однако и этот метод не устроил нацистов, «производительность» была недостаточна, и он требовал отвлечения большого количества автомобилей. В связи с этим учеными было предложено строить в концлагерях стационарные газовые камеры большого размера и закачивать в них угарный газ от мощных дизельных двигателей. В камеры помещалось до 100 человек одновременно, и за день можно было убить до 2 тысяч человек. Еще более эффективным было предложение немецких химиков применять для убийства людей отравляющий газ «циклон Б», разработанный еще в 20-х годах для борьбы с грызунами и насекомыми. Результат превзошел ожидание, и он был принят на вооружение. Уничтожение евреев пошло быстрее.
Оставалась одна проблема: действия всех государственных, военных и гражданских служб, занятых этим важным делом, были совершенно не согласованы, не было единого плана, никто централизованно не занимался материально-техническим обеспечением, хромал учет и статистика работы машины истребления. Нацистское руководство не могло допустить подобного непорядка, поэтому 20 января 1942 года в берлинском пригороде Ванзее состоялась Ванзейская конференция, на которой был согласован план «окончательного решения еврейского вопроса». Конференция должна была устранить разнобой в формах и методах ликвидации «недочеловеков», механизировать процесс «зачистки» территории, на которой должна была поселиться и размножаться «высшая раса».
Конференция, которая была организована начальником Главного управления имперской безопасности Рейнхардом Гейдрихом, должна была «синхронизировать», упорядочить уже существующие к тому времени технологические цепочки уничтожения евреев: арест — переселение в гетто — погрузка в товарные вагоны — доставка в концлагеря — изъятие драгоценностей, одежды и личных вещей — удушение в газовых камерах — сжигание трупов в печах — сбор золы для последующего использования в качестве удобрения. Идеальная схема, практически, безотходная.
В конференции участвовало 15 человек, среди которых были высшие чины СС, такие как начальник «еврейского отдела» Главного управления имперской безопасности Эйхман, министры, начальники полиции, руководители зондеркоманд и другие важные чиновники. На конференции было окончательно уточнено количество евреев, подлежащих уничтожению. Было определено, что в странах Европы и СССР суммарно проживало 11 млн. человек, в ближайшие пару лет предстояла «работа» гигантского масштаба. Поэтому было так важно определиться с необходимым удельным расходом различных материалов и ресурсов на умерщвление одного человека. Надо было подсчитать количество вагонов и паровозов для их перевозки, организовать команды по сбору и хранению драгоценностей, отбираемых у евреев перед отправлением их в газовые камеры, установить порядок складирование вещей и обуви, и даже способ утилизации волос. Вопросов было много, во вовремя Ванзейской конференции они были все обсуждены, все действия согласованы, все поручения оформлены и розданы к исполнению. Истребление евреев приобрело плановый промышленный характер с безупречно отлаженной технологией. По итогам конференции было отпечатано 15 итоговых протоколов по числу участников совещания, но сохранился и был приобщен к документам на Нюренбергском процессе только один экземпляр.
Румынскому руководству такой отточенный порядок в уничтожении людей и не снился, но со своей, более скромной задачей, они все же справились: 95 из 100 тысяч евреев Одессы они уничтожили, хотя это заняло у них почти год, и делали они это коряво и бестолково, что вызывало у немцев справедливое раздражение. Уже в наши дни украинский историк Александр Круглов в заключении своей статьи «Преследование и истребление евреев в Одессе в 1941-1942 годах» привел такие данные:
1. В Одессе в оккупации остались 100 тысяч евреев.
2. Румыны 23-25 октября 1941 года уничтожили в Одессе около 28 тысяч евреев.
3. Немецкая полиция в конце октября и первой половине ноября 1941 года расстреляла около 3-х тысяч евреев.
4. В конце октября и в начале ноября 1941 года румыны депортировали из Одессы в лагеря Богдановки и Доманевка около 30 тысяч евреев.
5. В январе-июне 1942 года из Одессы в Березовку румыны депортировали около 35 тысяч евреев, почти все они погибли.
6. В общей сложности в 1941-1942 годах разными способами и в разных местах было истреблено примерно 95 тысяч евреев.
Не надо думать, что немецкие фашисты были пионерами в таком «увлекательном» деле как массовое уничтожение ни в чем не повинных людей, которые, по их мнению, не имели права жить на этом свете. Уже в XX-м веке в период с 1915 по 1923 годы в Османской империи силами турецких религиозных и военных радикалов было уничтожено около 1,5 миллионов армян. Люди, независимо от их положения, место проживания, пола и возраста варварски убивали только по одному признаку — национальному, что в мировом юридическом сообществе получило название геноцида. Подобным зверским методом вожаками религиозных мусульманских фанатиков реализовывался их план полного очищения территории Османской империи от христиан, которыми в своем абсолютном большинстве были армяне.
Прошло всего лишь 30 лет после окончания Второй мировой войны, как в Камбоджи тоже законным путем пришел к власти еще один диктатор, только в отличие от Гитлера коммунистического толка. Его звали Пол Пот. О нем писали, что «это человек с обликом благообразного старца и сердцем кровавого тирана». У него в воспаленном мозгу была другая цель — построить социалистическое общество полностью свободное от буржуазных заблуждений. К последним он относил образование, культуру и религию, в частности буддизм. В связи с этим уничтожению или, в крайнем случае, перевоспитанию в трудовых лагерях подлежали все носители этих заблуждений и даже те, кто хотя бы умел читать и писать. В результате «красные кхмеры», так называли себя последователи Пол Пота, за несколько лет уничтожили 3 миллиона человек из семи, населявших Камбоджу. Газовых печей, как и самого газа, не было, патроны берегли, поэтому людей убивали подручными средствами: мотыгами, лопатами, зарывали живыми в землю, а некоторых для развлечения коммунистического руководства скармливали крокодилам. Конец этим зверствам положила вьетнамская армия, вошедшая в Кампучию — так стала называться Камбоджа — и за несколько недель разгромившая красных кхмеров.
Почему я решил написать об этих ужасах, совершаемых одними «Homo sapiens»’ами по отношению к другим «Homo sapiens»’ ам и не в дикие доисторические варварские времена, а в наше просвещенное время? Как такое возможно? Вот вы задумайтесь над этим вопросом в тот момент, когда вы поймаете себя на том, что вам жуть как не нравится ваш сосед и вся его семья. Поводом для вашего раздражения могут быть их убеждения, религия, которую они исповедуют, внешний вид, манера одеваться, громкий разговор, да еще и на непонятном вам языке, или цвет их кожи, форма носа или разрез глаз. Не появляется ли в глубине вашей души желание избавиться от такого соседства? Каким образом? Да любым, подумаете вы на секунду. И, если вы тут же не опомнитесь, не ужаснетесь собственным мыслям, не покраснеете до корней своих волос, то это и будет ответом на мой вопрос.
32. Возмездие
Я недавно прочитал, что убийства, совершаемые во время войны, во время военных действий одной воюющей стороны против другой в независимости от того, кто из них агрессор, а кто освободитель своих земель, не классифицируются как военное преступление, если только они не совершаются путем применения запрещенных методов убийств и «негуманных» видов вооружения. Таким образом, оказывается есть разрешенные методы убийств, а есть неразрешенные, типа использования ядовитых газов, фосфорных бомб, биологического оружия или некоторых видов противопехотных мин, которые не убивают, а только калечат или отрывают конечности. Если представить себе, конечно, чисто теоретически, что с окончанием некой войны ни один мирный житель не пострадал, а солдат газом не травили, то и судить будет некого. Но это в теории, а на практике, во время Второй Мировой войны фашистами были не только нарушены все «правила» и методы умерщвления людей, но придуманы столь зверские и садистские технологии, что чрезвычайным комиссиям, следователям, судам и трибуналам хватило работы на несколько лет. После войны желание справедливого возмездия охватывало каждого человека, кто хоть что-то знал о преступлениях фашистов, не говоря уже о тех, чьи родственники были убиты на войне или стали жертвами совершенной машины смерти, созданной и запущенной в действие немцами и их союзниками.
По свежим следам, когда удавалось захватить карателей и их пособников из местных жителей на освобожденных территориях, смертные приговоры приводились в исполнение в считанные часы. Свидетелем одного из них был лейтенант Гельфанд, вошедший со своей частью в Одессу в первый же день её освобождения.
«На Тираспольской улице он увидел «виселицу – автомашину», на которой с петлями на шее стояли три мерзавца: два румына и один русский. Машина отъехала, тела повисли. Агония двоих повешенных была «слабее среднего», с протокольной точностью зафиксировал лейтенант. Собравшиеся поглазеть на казнь одесситы встретили приговор и сам момент казни овацией. Перед входом в сожженный вокзал висел еще один румын — «за насильничанье и расстрелы мирных граждан».
До итогов работы Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков было еще далеко, также, как и до приговора главарям нацистов на Нюренбергском процессе, а душа и сердце жаждали возмездия немедленно, прямо сейчас, мозг вскипал от ненависти и осознания того, что далеко не все получат по заслугам, многие могут избежать наказания. Об этом говорил мне Борис, когда рассказывал о соседе-«борце» по дому на Екатерининской улице, который задушил Манюшку по дороге в гетто. Подкупил румын и сбежал, а потом вернулся домой, отсидел после войны небольшой срок и спокойно жил дальше. Также не понес наказание и знаменитый чемпион СССР по боксу Олег Загоруйченко, о котором Борис тоже упоминал
С началом войны Загоруйченко служил в разведотделе Балтийского флота. Осенью 1941-го года при попытке высадки разведывательной группы их катер был уничтожен, но Загоруйченко удалось выжить, его контуженного подобрали в воде. В лагере военнопленных его опознал один из немецких офицеров, перед войной возглавлявший немецкую спортивную делегацию в Москве, после чего его освободили, и Загоруйченко появился в Одессе, где у него жил отец. Там он согласился на сотрудничество с немцами и румынами и стал тренером боксёрского клуба «Виктория», который на самом деле. как потом стало известно, был немецкой разведшколой, а Загоруйченко тренировал там немецких диверсантов. Перед самым освобождением Одессы Загоруйченко сбежал и вместе с румынами оказался в Бухаресте, где погиб при невыясненных обстоятельствах.
Смогли избежать возмездия не только отдельные предатели и убийцы, но остались ненаказанными и даже не получили публичной огласки имена тысяч румынских рядовых участников истребления одесских евреев. Если Германия и немецкий народ в полной мере испытали заслуженный смертельный ужас, когда советская военная армада прокатилась по её территории, и возмездие было беспощадно, ощутимо, зачастую жестоко, и хоть как-то успокаивало душевные раны солдат, то Румыния как страна, выступившая во время войны на стороне фашистской Германии, благополучно избежала не только военной оккупации советскими войсками и справедливого наказания, но даже публичного порицания.
Уже в начале 1944 года румынское руководство и сам Антонеску, стали понимать, что поражение Германии неизбежно, и начали негласно пытаться устанавливать контакты с Англией и США, искать возможности выхода Румынии из войны. Это же хорошо понимала и румынская политическая оппозиция, которая, как ни странно, сохранилась во время войны, и нашла возможность объединиться в единый блок с коммунистами и согласовать свои позиции и действия по разрыву союза Румынии и Германии с молодым румынским королём Михаем I. В результате, в августе 1944 года Антонеску был арестован и передан СССР, а сам король объявил о выходе из войны и начале военных действий против Германии. И, хотя не до всех военных частей этот приказ дошел и часть румынских войск продолжала воевать против СССР, впоследствии румынские подразделения были включены в состав советских войск и принимали участие в войне с Германией.
Возможно, хорошо развитое политическое чутьё румынских политиков, своевременный разворот в сторону военного союза с СССР, а затем быстрое объявления себя Социалистической республикой позволило Румынии избежать «публичной порки», как сателлита и союзника Германии, и привели к затушевыванию их роли в войне против СССР и особенно в военных преступлениях против еврейского населения в Одессе и Бессарабии. Если преступления фашистов были постоянной темой в исторических исследованиях, в литературе и кино, то о румынских «подвигах» на этом поприще почти не упоминалось. Подобный нечистоплотный подход советского руководства, использованный в угоду своих геополитических интересов, позволил румынским военным, прямо причастным к массовым казням мирных людей, раствориться в послевоенном обществе, загнать свои воспоминания о совершенных ими преступлениях в дальние уголки своих душ и стать активными строителями социализма в Румынии.
Не исключаю, что я жал руки именно этим бывшим военным на технических переговорах, когда в феврале 1989 года был в командировке в Бухаресте. Некоторым из участников встречи было в то время лет по 70-75, они были дружелюбны, улыбчивы и с удовольствием пили нашу «Столичную», которую мы привезли из Ленинграда.
Только уже в перестроечные времена стали появляться серьёзные работы профессиональных российских, украинских, молдавских и западных историков, в которых с академической полнотой и точностью рассматриваются и анализируются события, связанные участием Румынии во Второй мировой войне.
После передачи Антонеску советским органам его перевезли в Москву. «Румынский диктатор был в маршальском повседневном кителе мышиного цвета с многочисленными орденскими планками и одним орденом», — вспоминал в конце 1990-х генерал майор в отставке, а во время событий — подполковник «СМЕРШ,а» Михаил Белоусов, руководивший операцией. «Роста небольшого, худощав, рыжеват, вид, как я про себя подумал, подавленный. За ужином, продолжавшимся около двух часов, каких-либо примечательных разговоров не произошло. «Гости» пили мало, но ели прилично, говорили, что все кушанья вкусны. Имел место разговор о трудностях и бедах, принесенных войной».
По прибытии в столицу СССР бывших румынских руководителей доставили на одну из дач в Подмосковье. Затем их перевели во внутреннюю тюрьму НКГБ на Лубянке, где румыны находились в предварительном заключении до апреля 1946 года. На Нюрнбергском процессе советский представитель обвинения сообщил о проведенных в Москве допросах румынских заключенных: «Допрос Антонеску произведен в соответствии с законами Советского Союза, и протокол его показаний, представляющих исключительную важность для выяснения характера взаимоотношений Германии с ее сателлитами, представлен трибуналу».
Никто не исследовал причин и истоков его звериной ненависти к евреям. Наверняка они были не в глубинах мировой истории и тонкостях религиозных противоречий между христианами и иудеям. Что-то гораздо проще и примитивнее. Не думаю, что фигура Антонеску могла прилечь внимание серьёзных исследователей, но вот, например, в книге «Город Антонеску», написанную Яковым Верховским, пережившим ребенком всю румынскую оккупацию Одессы, я прочел, что еще в детстве Антонеску был болезненно травмирован уходом своего отца к другой женщине, еврейке по национальности, и все свои детские переживания и страдания он связывал именно с национальностью этой женщины. Более того, как это ни странно, он впоследствии сам первый раз женился на еврейке по имени Рахиль Мендель; наверное, не устоял перед красотой еврейской девушки. К несчастью мальчик, родившийся у молодой пары, быстро умер, что вызвало бешенство Антонеску, который теперь навечно возненавидел евреев как источник, по его мнению, всех его личных бед и несчастий.
В апреле 1946 года Антонеску был передан Румынии, где 6 мая начался Бухарестский процесс над бывшим маршалом, бывшим руководителем государства и председателем Совета министров Ионом Антонеску. На процессе было установлено и подтверждено, что Антонеску был лично повинен в смерти 300 000 евреев, проживавших на территории Румынии, Бессарабии и Одессы, и это не считая несколько десятков тысяч цыган, которые по его мнению тоже не имели права на жизнь. Он и еще 17 его ближайших сподвижников были приговорены к смертной казни, но в итоге, после ряда помилований расстреляны были только четверо. Приведение приговора в исполнение превратилось в балаган, в котором Антонеску разрешили командовать расстрелом лично, давая команду «пли» взмахом своей шляпы.
Свидетель и участник расстрела вспоминал: «В последнем слове Антонеску прокричал, что умирает за идеалы румынского народа. Диктатор не умер после первого залпа и, лежа на земле, потребовал, чтобы в него выстрелили еще раз. Пришел командир и выстрелили в него снова. Медик же констатировал, что Антонеску опять не умер. Тогда командир выстрелил вновь и выбил Антонеску мозги. “Все были мертвы”, — констатировал старший сержант жандармерии».
Похоже, что жандармы, приводившие приговор в исполнение, а их было не менее полутора десятка человек, были хреновыми стрелками, не имевшими опыта в расстрелах одесских евреев, там все стреляли точно и наверняка.
Сразу же после войны судили и казнили не только фашистских главарей, но и сошек поменьше, хотя большому количеству нацистских преступников вообще удалось избежать наказания, найдя прибежище в странах Латинской Америки.
Если в Одессе румынских фашистов и местных карателей вешали буквально в первые же дни её освобождения в порыве праведного гнева, по свежим следам без суда и следствия, которые подменялись еще не остывшей, кипящей ненавистью к конкретным садистам со следами крови на руках, то в других советских городах, наиболее сильно пострадавших от немецкой оккупации, фашистов казнили уже по приговору судов.
Один из них происходил в декабре 1945 года в Ленинграде. Основные материалы суда засекречены до настоящего времени, но из доступных источников известно, что на суде разбирались преступления генерал-майора вермахта Генриха Ремлингера и его ближайших подчиненных, совершенные в Псковской и Ленинградской областях зимой 1943–1944 годов: карательные акции (расстрелы, сожжения заживо, пытки), угон на принудительные работы, уничтожение населенных пунктов при отступлении. На Ленинградском суде были упомянуты также масштабные нацистские преступления 1941-1942 годов, совершенные на этой территории против евреев, цыган, душевнобольных, советских военнопленных, но на суде они подробно не рассматривались, в обвинительное заключение эти материалы не вошли и публичной ответственности за эти преступления Холокоста никто не понес. Проект приговора был направлен судом в Москву для утверждения В.М. Молотовым: «Учитывая степень виновности каждого из подсудимых, считаем необходимым приговорить подсудимых Ремлингер, Штрюфинг, Зонненфельд, Беем, Энгель, Янике, Скотки, Герер — к смертной казни через повешение; подсудимых Фогель, Дюре и Визе — к каторжным работам. Просим Ваших указаний» (докладная записка на имя Молотова. РГАСПИ).
Местом казни в Ленинграде была выбрана большая площадь Калинина у кинотеатра «Гигант», на которой собралось несколько десятков тысяч ленинградцев. Сама казнь была описана ленинградскими газетами подробно и эмоционально: «Они избежали на фронте справедливой пули советского солдата. Теперь им предстояло испытать прочность русской верёвки. На крепкой перекладине повисли вчера в Ленинграде восемь военных преступников. В последние минуты они снова встретились с ненавидящими глазами народа. Они снова услышали свист и проклятья, провожавшие их на позорную смерть. Тронулись машины. Последняя точка опоры ушла из-под ног осуждённых» (Ланской М. Приговор народа. «Ленинградская правда». 4 января 1946 г.).
О самом суде, включая приведение приговора в исполнение, был снят документальный фильм «Приговор народа», оператором которого был знаменитый впоследствии Ефим Учитель.
Надо сказать, что сам процесс экзекуции и жуткие подробности последних секунд конвульсий живого существа был для многих присутствующих на площади тяжким зрелищем. Нормальный человек так устроен: наблюдать чужую смерть, даже негодяя и садиста, является противоестественным и отвратительным. О подобных впечатлениях делился в моем присутствии близкий друг наших соседей по квартире в 50-х годах, который принимал участие в процессе в качестве переводчика и присутствовал на площади Калинина.
Возвращаясь к Румынии, которая ловко избежала полной меры ответственности за свои преступления во время войны, не могу справедливости ради не упомянуть, что 12 октября 2004 года президент Румынии И. Илиеску официально признал вину румынского государства за Холокост, благодаря чему можно надеяться, что в значительной степени произошло моральное очищение румынского общества. В заключении он сказал: «Нельзя забывать или принижать трагедию нашего недавнего темного исторического прошлого, когда евреи стали жертвами трагедии Холокоста».
Ну, что ж, спасибо и за это.
33. Бобина война
К лету 1944 года Советские войска существенно продвинулись к своим западным границам, линия фронта приближалась к Белоруссии, Литве и Эстонии. Несмотря на то что в июне был открыт второй фронт, и войска союзников начали активно наступать на западном фронте, гитлеровское командование основную группу войск все равно сосредоточило на восточном фронте. Впереди еще были тяжелые бои в Польше и в самой Германии, никто еще не мог предсказать сроки окончания войны, но понимание, что война Гитлером будет в скором времени проиграна, было у всех.
Так что в своем желании отомстить за сестру и уйти на фронт Борис не опоздал, впереди был еще целый год войны. Ему только-только исполнилось 18 лет, он был худощавым и не очень высокого роста парнем, перенесшим самые тяжелые месяцы ленинградской блокады, простоявшим два года у станка, работая часто по две смены, зарабатывая себе и маме на скудное пропитание. Трудности и испытания, с которыми он встречался в эвакуации, а затем и на фронте, усугублялись, как это ни смешно звучит, большим, орлиным по форме носом, который достался ему от отца. С какой целью мать-природа, которая как известно ничего просто так не совершает, с непонятной настойчивостью формировала этот важный орган дыхания и осязания такой величины и подобной формы, остаётся невыясненным до сих пор, но результат селекции был как говорится «на лице» и довольно сильно портил личную жизнь его обладателю. Хорошо знаю это по своему опыту.
Борис написал в своих воспоминаниях ровно 60 лет спустя. «Что было в голове в тот момент, я не помню, но сейчас мне представляется, что решил: учебу потом, а сейчас на фронт. Всё время буравила мысль о том, как буду смотреть в глаза людям, не был на фронте, отсиживался в тылу – значит правду говорят о трусости евреев. Вот после трехнедельного пребывания в Одессе и последовало то, что долго зрело — ушел на фронт. Перед этим написал твоей маме, где и что видел, у кого что есть из известных вещей семьи. Написал своим, что иду мстить за Маргариточку.
В военкомате даже на медкомиссию не направили. Сначала попал в часть, где хорошо кормили. Совершил два прыжка с парашютом, один нормально, а второй методом «под зад». Направляют в запасной полк в город Николаев, куда из Одессы прибыли пешком. В полку учили шагать, разбирать винтовку и штыковому бою. Но автомат даже не показывали. Ни разу не выстрелили. В казарме на стенде стояли пулеметы, но никто не показал, как с ними обращаться. Вот протирать их, будучи дневальным, приходилось, как и мыть асфальтовый пол и сидеть на гауптвахте. Наконец, в декабре 1944 года сформировали маршевые роты, хорошо обмундировали, даже были в сапогах, в отличие от многих, ходивших в ботинках с обмотками.
Прибыли в 191-ю Новгородскую стрелковую, краснознаменную и т.д. стрелковую дивизию. Выстроили, Командир дивизии, генерал-майор Григорий Осипович Ляскин обратился к пополнению, рассказал об истории дивизии».
Было бы справедливо в этом месте отвлечься и написать несколько слов об этом офицере, который встретился в жизни Бориса, и о котором он не раз вспоминал, рассказывая мне о нем с большим уважением.
Григорий Ляскин родился в 1897 году в маленьком поселке Левашово Владимирской области в еврейской многодетной семье, отец был столяром. Уже в 18 лет Григорий был призван в царскую армию, воевал в Первой мировой войне, затем в Гражданской, потом в финской и наконец в Великой Отечественной, которую начал в звании подполковника. Кавалер многих боевых наград. Только с октября 1944 года по март 1945 года за успешные войсковые операции получил четыре личные благодарности за подписью Верховного Главнокомандующего.
После окончания войны генерал-майор Ляскин находился в распоряжении Военного совета, затем в сентябре был назначен старшим преподавателем тактики курсов «Выстрел», а в начале 1947 года был уволен в запас по болезни. Через два года, в ноябре 1949 года генерал был арестован, помещён в Сухановскую тюрьму, приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к 25-ти годам лишения свободы. Постановлением Совета министров СССР был лишён воинского звания «как осужденный Военной коллегией Верховного суда СССР». Чем можно было объяснить подобное вероломство, жестокость и чудовищную несправедливость? А ведь Ляскин был в те годы не единственной жертвой кремлевского безумца. Ему даже «повезло», т.к. начатые еще до войны репрессии против высшего командования Красной армии, продолжились и после войны. В 1950 году были арестованы и приговорены к расстрелу 20 советских генералов и один маршал — Григорий Кулик.
Совет министров СССР уже в августе 1953 года, через несколько месяцев после смерти Сталина, отменил своё решение о лишении воинского звания, Григорий Ляскин был полностью реабилитирован и освобождён из мест заключения. Умер он в 1976 году в Москве.
«Затем Ляскин спросил: «Есть ли кто из Ленинграда?». Из строя вышло двое. Приказано было давать нам банку тушенки и буханку хлеба на двоих ежедневно. На вопрос офицера, кто пойдет служить в разведподразделение, вышел я и еще несколько человек. «Немецкий знаешь?» Нахально отвечаю, что учил в школе с детства. «Was machen Sie fon fichten?” “Waschen und fressen” (Что Вы собираетесь делать? Помыться и пожрать). Это диалог по-немецки с нижегородским акцентом решил вопрос, я был зачислен во взвод пешей разведки 546-го полка этой дивизии, т.е. в «полковушку». Выдали автомат, показали с какого конца за него браться, как заряжать, как стрелять. Хотя во взводе из старослужащих был только командир, научился многому, даже в стрельбе из пистолета. Во взводе оказался единственным, имеющим 7-ми летнее образование, но отказался от направления в школу, готовившую младших командиров, а попал на курсы саперов с уклоном: «обезвредить», т.е. в поиске и разминировании работать без привлечения солдат саперного взвода. Пригодилось, хотя, кажется на этом и попался впоследствии.
Если посчитать, что мною во время войны совершено важного, то, с моей точки зрения, это, в первую очередь, самостоятельное обезвреживание на марше новейшей немецкой, колейной мины РМИ-43, когда находился в головной походной засаде впереди полка, заметил и обезвредил её. Под Новый 1945 год находился во втором эшелоне, но ходили в тыл к немцам, т.е. разведывали будущий маршрут полка. Это был район местечка Августово, известного еще по первой мировой. (Тут, возможно, Борис, что-то путает, т.к., если этот населенный пункт был в Белоруссии, то, как пишут в Интернете, он был освобожден в июле 1944 года.)
Нам сообщили, что противник подтягивает технику, гудят моторы. Мы сходили, притащили немца с бензопилой — лес пилят, строят укрепления. Так вот и служил, спасало то, что был мальчишка и кругом мальчишки. Офицер разведки полка капитан Кудрявцев относился ко мне хорошо. Иногда брал с собой. Однажды выяснилось, что я не умею ездить верхом, седлать лошадь. Заставил весь день тренироваться. Научился, но пару дней не мог сидеть. Вот так, в один из дней он отослал меня с каким-то поручением. Когда я вернулся, мне сказали, что капитан убит взрывом снаряда, как и несколько человек, которые стояли около него. Не отошли он меня, то и я стоял бы рядом. На его место прибыл офицер, который глянул на меня и на мой профиль и сразу понял, что он трепетно «любит» евреев. До этого он был помощником командира полка и подписывал документы: «Вася – бандит из Иркутска». Он не скрывал своего отношения к евреям вообще и ко мне лично. В один из дней, когда я вернулся с задания, мне сказали, что он порвал письма, которые пришли ко мне от родных, со словами: «Жид обойдется без весточки». Я не успел его задушить только потому, что меня оттащили от него. Даже когда его тяжело ранило, он прошипел: «Жидовская морда». А я его в это время перевязывал.
Вскоре, 23 февраля 1945 г. наша группа вернулась с большого маршрута. Вновь назначенный офицер разведки полка, не дав отдохнуть, послал сопровождать наступающий батальон. С рассветом 24-го числа мы двигались уже впереди батальона, который вел себя беспечно. На входе в городок я шел по кювету вдоль дороги первым. Пехота шла невдалеке слева. Вот по ней и заработал немецкий пулемет. Как мне показалось, я правильно определил его место. Решил, что из близлежащего дома я его уничтожу. Влетел в дом, а пулеметчики немецкие не на улице, а в доме — амбразура под окном. Подкатил под них гранату, а сам назад и влево… Очнулся, уверенный, что сзади меня был немец и он ударил по голове. Потянулся к боковому карману для самоуничтожения, но почувствовал запах гари и услышал, что Толя Лицкай, мой товарищ, окликает меня. Дальше помню только, что сказал: теперь можно бросить автомат, тяжело».
Тут надо отметить, что Борис в своих воспоминаниях не уточняет, что эта была за операция, в каких местах и в каком направлении велось наступление батальона. Можно только с большой вероятностью предположить, что батальон, который сопровождала разведгруппа Бориса, участвовал в общем наступлении 546-го полка 191-й Новгородской дивизии, которое началось 17 февраля 1945 года. Вот, что можно найти в Интернет, с ссылками на военно-исторические источники и документы: «В ночь на 17 февраля 191-я дивизия форсирует реку Шварцвассер в районе деревни Сауермюле и занимает Оше — сильный опорный пункт на пути к Черску, а 18-21 февраля ведёт бои за населённые пункты Линек и Гловка в 60 километрах севернее Быдгоща».
Таким образом, бои и наступление 191-я дивизия вела уже на территории Польши. До Победы оставалось чуть больше года, но в конце февраля Борис очнулся уже в госпитале. А до этого был полковой санбат, где выяснилось, что Толя, его напарник по группе разведки, вовремя наложил повязку и это, очевидно, и спасло Борису один глаз.
«Из санбата в пересыльный госпиталь, затем в еще один госпиталь, где решают, пока слепого, отправить в город Торн, в глазное отделение госпиталя №1374. Город старинный, место рождения Коперника, находится на севере Польши. Дней 10, в ожидании операции лежу слепой и вспоминаю. Что на проспекте Динамо, дом 14 после финской войны был создан интернат для слепых, помню его очень хорошо, прямо стоит перед глазами. Каково ждать? Полковник медицинской службы Вера Абрамовна Шульц сказала, что ровно месяц ждет, а потом удаляет правый глаз. Так и было, сделали операцию, глаз удалили. Вылечили, признали годным к нестроевой службе. Оказался в запасном полку, а оттуда в комендатуре. Наконец в 1945 году демобилизовался и приехал в Ленинград. Некоторое время работал токарем на заводе «Электролит», а затем поступил в техникум при ГОМЗ’ е и зимой 1946 года успешно заканчил первую половину учебного года».
34. Окончание войны и послевоенные годы
Как встретили День Победы, оставшиеся в живых мои одесские, ставшие к этому времени уже ленинградскими, родственники я не помню и не знаю. Так сложилось, что никто из них об этом не рассказывал. Наверное, как и все вокруг, радовались и праздновали в кругу друзей, соседей, однополчан. Наконец-то закончился этот морок.
Все жители квартиры в доме по Екатерининской улице 2 испили эту чашу горечи сполна. Четверо погибли мучительной смертью, четверо были участниками войны, из них двое — Лев и Борис — воевали на передовой и вернулись с тяжелыми ранениями, папа круглые сутки пропадал в прифронтовых ремонтных авиамастерских, мама работала рядом с ним и назло фашистам родила меня, тётя Вера перенесла блокаду, самые её трудные зимние месяцы 1941-42 годов, пережила потерю дочки, не сломалась в эвакуации, сохранила себя и осталась чудесным человеком. Казалось бы, на этом можно было поставить точку в моем повествовании, но, хотя война и закончилась, её призрак, её ядовитый дурман еще долго не отпускали людей, переживших военные годы, коверкая их судьбы и забирая их жизни. Она еще долго стояла за их спинами, влияя на их повседневную жизнь, время от времени напоминая о себе, формируя сознание и мысли у подрастающих детей, многие из которых только со временем смогли осознать, что их отцы домой не вернутся никогда. Она лезла из всех щелей, из газет, книг, кинофильмов. Она была написана на изможденных лицах ленинградских женщин, переживших блокаду Ленинграда. Проявлялась, внезапными инфарктами и обострениями болезней у фронтовиков, обидами и ожесточением душ инвалидов, лишенных должного внимания и заботы.
Все это в большой степени отразилось и на послевоенной жизни моих родных. Тема войны, блокады и гибель родных в Одессе очень долго присутствовала в нашей жизни. Специально эти темы никто не поднимал, но они постоянно возникали по всяким, казалось бы, случайным поводам. То мама получит письмо из Одессы от одной из своих школьных подруг и начинает рассказывать о своей довоенной жизни, то вдруг без предупреждения приедет в Ленинград кто-то из папиных однополчан, заночует у нас, и они с папой до поздней ночи выпивают и вспоминают военные годы, а то на улице раздадутся траурные звуки оркестра, сопровождающего грузовик с опущенными бортами, на котором стоит гроб, обтянутый красной материей, а за медленно двигающейся машиной, идут люди, держа на красных подушечках военные награды покойного. Так, как правило, провожали в последний путь фронтовиков. Потом в середине 50-х годов эти процессии через весь город отменили.
Мама и тётя Вера, уже начиная с лета 1944 года, получив письма от Тамары и Бориса, знали о последних днях жизни и обстоятельствах смерти родных, но никогда ни о каких подробностях мне не рассказывали. «Их убили немцы», — так они отвечали на мои вопросы, которые я стал задавать, когда немного подрос. Мне было лет 5-6 не больше, и «немцы» какое-то время представлялись мне неким абстрактным злом, не имеющим лица. Но однажды гуляя с мамой по набережной около моста Лейтенанта Шмидта, я увидел группу людей, одетых в совершенно одинаковые серые куртки и брюки, в шапках с длинными козырьками, тоже серыми, которые стояли на коленях с опущенной вниз головой и стучали молотками по мостовой. Около них прогуливалось несколько солдат с винтовками за плечами. Это были пленные немцы, которые мостили набережную то ли булыжниками, то ли диабазом, такими гранитными кубиками, точно не помню. На коленях у них были деревянные накладки, опираясь на которые они переползали с одного места на другое. Со стороны эта шевелящаяся живая масса напоминала мне каких-то омерзительных серых животных, похожих на крыс, которых в Ленинграде было в то время очень много. Я сам не помню, но мама рассказывала, что, проходя мимо них, я показал им кулак и прокричал в их адрес что-то по поводу убитой ими Маргариточки.
Я только, сравнительно недавно задумался над вопросом: а почему никто из них, по крайней мере мама или её брат Лёва, не вернулись обратно в Одессу? Квартира, хотя и разбитая, сохранилась, также, как и формальное право на прописку в ней. Почему не уехали, тем более, что папины родители остались живы и вернулись в Одессу из эвакуации. Точного ответа не знаю, но, скорей всего, из-за боязни каждодневного ощущения их, мученически погибших, присутствия рядом.
День Победы, отгремев 9 мая 1945 года салютами и ликованием людей на улицах в городах, потом еще долгие годы был днем памяти погибших и днем встреч с теми, кто воевал и был рядом во время войны. Еще не было введено понятие «ветеран» или «участник войны». Трудно было найти семью, где не было бы участника войны или погибшего на ней, или умершего во время блокады. Никого не удивляло, что в нашей школе класса, наверное, до пятого собирали деньги на покупку обуви для тех ребят, чьи отцы не вернулись с войны, а таких было чуть ли не треть класса. Трудности и предельная скромность обыденной жизни были привычными и никого не напрягали, так жили все.
Чем дальше в прошлое уходит от нас победный 1945 год и чем меньше остаётся участников войны, блокадников и тех, кто, будучи детьми, подростками, были свидетелями, а иногда и жертвами нацистских зверств, тем больше Победа становится неким историческим событием, одним из разделов учебника, несомненно, самым ярким в летописи нашей страны, и тем меньше она вызывает душевной и сердечной боли, реальных слез и страданий в нашем обществе. Парады, плакаты и салюты стали заменять настоящие чувства. Время, как эффективное обезболивающее средство, приглушает, а часто просто избавляет нас от искренних и неподдельных переживаний. Возможно, это неизбежный жизненный процесс. Наверное, нельзя все время жить прошлым, надо идти дальше. Не знаю..
Возвращаясь к моим родственникам и к нашей семье, должен сказать, что, хотя война и кончилась, но их жизненные испытания продолжились.
35. Псков-конечная остановка
Мы расстались с Борисом зимой 1946 года, когда он успешно закончил первую половину учебного года в техникуме.
В марте 1947 года Борис был арестован по обвинению в нанесении телесных повреждений человеку и осужден на 4 года. Подробностей не знаю, но основными причинами участия Бориса в жестокой уличной драке были оскорбления в его адрес и его знакомой девушки. Моя мама, которая знала эту молодую даму, говорила мне потом, что её «честь» и её известная репутация не заслуживали такой реакции Бориса, но, очевидно, обостренные чувства молодого двадцатилетнего парня, фронтовика, еще вчера ходившего за языком за линию фронта, не позволили ему сдержать себя и контролировать свои действия.
Четыре года заключения, три из которых он провел в колонии в пригороде Воркуты, были тяжким испытанием в его жизни, и, конечно, для его родителей, которые еще не пришли в себя после гибели дочери. Условия, в которые он попал, были жестокие и иногда смертельно опасные. Вокруг были и настоящие преступники, безжалостные убийцы и бывшие каратели, и предатели, и власовцы. Но было много и политических, просто обыкновенных фронтовиков, солдат и офицеров, осужденных в связи с тем, что были в плену у фашистов. Вот они-то и помогали не сломаться, не сойти с ума от постоянной опасности и подлости сокамерников. Помог также и опыт работы токарем, что было оценено тюремным начальством и обеспечило Борису более сносные условия существования. Он освободился в 1950 году, но разрешение вернуться в Ленинград получил только в 1951 году. С отличием закончил машиностроительный техникум, получил распределение на завод в Пскове, женился и прожил там всю оставшуюся жизнь. Успешно работал на псковских машиностроительных заводах, был на руководящих должностях, вступил в партию, руководил работой оперативного отряда городской дружины, стал известным и уважаемым в Пскове человеком. Увлекался шашками, получил звание мастера спорта, вел в городе шашечный кружок. Побывал во Франции в турпоездке, хотя первый раз был заграницей еще в 1944 году, когда в составе 191 Новгородской дивизии участвовал в боях за освобождение Польши.
Но не все так безоблачно было в его жизни. Детей у них с женой не было, она тяжело и долго болела, умерла, оставив Бориса, фактически одного, близкими друзьями они в Пскове не обзавелись. Давало о себе знать и тяжелое ранение: мучили головные боли, ухудшалось зрение в оставшемся глазу. Борис не принял перестроечные перемены, рыночные подходы в экономике, болезненно воспринял распад СССР, хотя хорошо понимал и испытал на себе многие теневые стороны советской истории. Мы с Викой замечали и чувствовали перемены в его настроении, приезжали к нему в Псков, много внимания уделял ему и Миша, но мы не заметили, не уловили вовремя тревожной тональности его писем в последние годы, в которых сквозило отчаяние и, как мы уже потом поняли, признаки, что у него кончаются силы для противостояния навалившимся на него проблемам.
Весной 2005 года он добровольно ушел из жизни. Это была единственная ситуация на его очень непростом, полном испытаний жизненном пути, когда он не смог справиться с вставшими перед ним трудностями, сдался и решился на непоправимый поступок.
Можем ли мы осуждать его за это, обвиняя в трусости и слабости? Мы — т.е. наше поколение, которое при отсутствии горячей воды в кране возмущается, требует, чтобы в булочной был только свежий хлеб, а при поломке личного автомобиля или даже стиральной машины впадает в глубокую депрессию.
36. Лева — горькие годы
Отвоевав, как говорится, от звонка до звонка, дядя Лева в конце 1945 года вернулся в Ленинград и вновь стал жить в коммунальной квартире на пятом этаже дома № 18 по улице Толмачева. С собой он привез вещмешок, с которым не расставался, начиная еще с финской войны, нашивку о тяжелом ранении, медаль «За Победу над Германией» и документы, в которых было указано о его пребывании в плену у немцев. Дома его ждала вернувшаяся из оккупации любимая женщина по имени Доба, из-за которой он в 1939 году оставил в Одессе свою жену Музу с ребенком. С ней был уже подросший за время войны шестилетний мальчик по имени Яник, сын Добы от первого брака. Яник был симпатичным мальчиком, очень добрым, улыбчивым, похожим на медвежонка. Таким он остался на всю жизнь.
Дядя Лева устроился работать конструктором на завод газовой аппаратуры и проработал там всю жизнь. В 1947 году у них с Добой родился сын Марк, названный, конечно, в память деда. Замечательный был парень, очень способный, добрый и искренний. Жили очень скромно, ничего себе не позволяли, никогда не слышал, чтобы Лёва и Доба куда-нибудь ездили в отпуск отдыхать, на это средств было недостаточно. Зарплаты конструктора и школьной учительницы хватала только на самое необходимое и на книги. Никогда не слышал от дяди Лёвы каких-либо жалоб и сетований на неустроенность или какую-либо нужду. Все семейные ресурсы, материальные, моральные и эмоциональные были направлены на воспитания сыновей, они же были источником гордости, придавали силы и позволяли не замечать окружающую их неустроенность.
Марик после школы отслужил в армии, поступил в институт и в1972 году, после первого курса, поехал на каникулы с друзьями в Крым. В те годы туда ездили отдыхать тысячи студентов и вообще молодежь. Билеты в общий вагон были доступны, жили в палатках, питались кашей и концентратами, пили дешевое сухое крымское вино и пели у костра песни под гитару. Конечно, ходили в горы. Пошел в горы и Марик, но у него была особая цель: добраться до мест, где воевал его отец. Проявились его юношеская восторженность, впечатлительность и романтизм. Воодушевленный, очевидно, рассказами и воспоминаниями отца о тех местах, где тот воевал, он решил во чтобы то ни стало побывать там и подняться на вершину горы. Поднимаясь но одному из её крутых склонов, не имея никакой подготовки, в обычной обуви, он сорвался в пропасть, ударился головой о камень и погиб. Это был страшный удар по родителям. Через два года от инфаркта, в 64 года умерла его мама, а еще через пару лет, тоже в 64 года умер и его отец. Похоронены они все вместе, а на плите памятника Марка сделана надпись в память погибших родственников, чей прах остался где-то в пригородах Одессы.
 |
Дядя Лева был тихим и очень скромным человеком. У меня сложилось впечатление, что годы, проведенные им в армии во время его службы на границе, на финской и на Отечественной войнах были для него, если не самыми счастливыми, то самыми яркими, наполненными событиями, позволившими ему почувствовать свою значимость и востребованность в этом мире.
После войны рутинность, монотонность и блеклость его жизни, бытовая неустроенность, ограниченность в средствах и появившееся в последние годы равнодушие и потаенное раздражение в отношениях с женой, сделали его тем самым тихим, скромным и замкнутым дядей Левой, которого, оказывается, все мы плохо знали и уделяли ему мало тепла и внимания, которых он, без сомнения, заслуживал.

Дядя Лёва |
37. Мои тетя Вера и дядя Або
Самые мои первые детские воспоминания связаны с домом на 7-й линии В.О., где мы жили на мансардном 7-ом этаже и домом на проспекте Динамо, где я начал бывать, начиная, наверное, с 4-5-ти лет, а может быть и раньше. Борис вернулся в этот дом в декабре 1945 года после демобилизации, а в начале 1946 года из эвакуации вернулись и тётя с дядей. Прошел год, Борис уже окончил первый курс техникума, но случилась та история с дракой, где он, вероятно, не справился с эмоциями, не рассчитал силы, сильно избил человека. Прошло несколько лет после окончания войны, у тёти еще были свежи воспоминания об ужасах блокады и непростой жизни в эвакуации, Тикама погибла в Одессе, а Борис, который вернулся с войны инвалидом, в тюрьме.
Тогда я, конечно, не понимал до конца глубину и ужас тех переживаний, которые испытывали тетя и дядя, думая о дочке и представляя её мучения, которые выпали ей в её последние дни, часы и минуты жизни. При мне о Маргарите и остальных родных, погибших в Одессе, говорили очень редко, внешне тётя и дядя были спокойны и их переживания никогда не вырывались наружу, никогда не видел я у тети слез на глазах. Но иногда тётя внезапно замолкала, на мгновение замирала, и я чувствовал, что она куда-то переносилась своими мыслями. В комнате, кроме большого портрета Маргариты в овальной раме на стене и её куклы с фарфоровой головкой с бантом в волосах и в красивом шелковым платье, сидящей на кровати, ничего о ней напоминало.
Очевидно, внимание, время и заботу, которую они стали уделять мне и моей маме в те годы, позволяли им переключаться, уходить от своих мрачных мыслей, от кошмара тех картин, которые несомненно возникали в их головах. Мама и тётя были очень близки, у каждой были свои причины тянуться друг к другу, делиться своими переживаниями, понимая друг друга с полуслова, а чаще и вообще обходиться без них. Им было о чем помолчать.
До поступления в школу я бывал там очень часто и подолгу жил с ними, т.к. мама пошла работать, а папа продолжал военную службу. Тетя Вера заменяла мне, фактически, бабушку, проявляя в отношении меня классические бабушкины качества. Мне с ней было уютно, безопасно, интересно. Дядя Або не был сентиментален, а внешне был даже холоден, разговаривал он со мной редко, да и о чем со мной было можно говорить. Но с тётей помню мы говорили много, вернее я задавал ей многочисленные вопросы, а она терпеливо на них отвечала, меня даже дома называли «почемучкой». Мы часто слушали с ней по радиоприемнику, который им вернули после войны, передачи под названием «Театр у микрофона», во время которых транслировались различные театральные постановки. Описание декораций и действующих лиц, их перемещение по сцене комментировали дикторы, что давало возможность слушателям ясно представлять, что происходит по ходу театрального действия. Надо добавить, что таким же образом, транслировали по радио и футбольные матчи, т.к. телетрансляций тогда еще не существовало, хотя телевизоры с экранами не больше почтовой открытки уже стали понемногу появляться.
Она много мне читала: сказки, книжку Бориса Житкова. «Что я видел», что-нибудь интересное из «Огоньков», которые они выписывали каждый год, а позже и рассказы Чехова, которого обожала. Любила она и Гоголя. В углу комнаты стояла изразцовая печь с полочкой по всей её ширине, на которой стояли фарфоровые статуэтки, изображающие героев гоголевских «Мертвых душ». Зимой печку топили каждый день. Мне очень нравилось смотреть, как тётя растапливала печь, а после того, как огонь становился устойчивым она разрешала мне подбрасывать в топку дрова, и мы вместе любовались языками пламени, дерево было сухое и горело очень ровно, почти без дыма. Потом латунную, начищенную до блеска дверку топки закрывали, и я начинал ждать, когда кафель нагреется и будет можно начать греть об него озябшие руки. Около открытой дверки тётя сушила мои шаровары и ботинки, насквозь промокшие после ходьбы на лыжах, на которых я катался по всему Крестовскому острову, но это было, когда я уже начал ходить в школу и меня стали отпускать гулять одного.

Я с тётей Верой |
А до поступления в школу мы гуляли вместе с ней. Особенно мне запомнились наши с ней поездки на трамвае. Это были фактически экскурсии по городу с индивидуальным гидом. Мы садились с ней на трамвай, кольцо которого было недалеко около ЦПКиО, поэтому днем он приходил почти пустым. На этом маршруте, номер которого я забыл, ходили трамваи с вагонами, которые назывались «американки». Они были шире, чем обычные ленинградские вагоны, их корпуса были отделаны светлым деревом и снабжены автоматическими складными дверями, а в салоне стояли не продольные лавки, а поперечные сидения, как в купе поезда, и на них было удобно сидеть и смотреть в окошко.
У трамвая был очень интересный маршрут — через Неву, центр и Невский проспект. Он переезжал через большой Крестовский мост, а дальше его путь проходил мимо зоопарка, напротив которого на углу нынешнего Кронверского проспекта и Геслеровской улицы довольно долго оставались руины полностью разрушенного во время войны дома, далее, переезжая через мост Строителей, мы попадали на стрелку Васильевского острова. Справа было огромное здание Биржи, слева стояли Ростральные колонны. Потом мы проезжали Дворцовый мост, с которого хорошо была видна панорама Невы, с набережными, Петропавловской крепостью, Адмиралтейством и Зимним Дворцом. Это от неё я впервые узнавал историю этих зданий и событий с ними связанных. Она терпеливо отвечала на мои бесчисленные вопросы, а я продолжал вертеть головой, рассматривая здания на Невском проспекте. Заканчивалась наша экскурсия по Ленинграду около стен Невской лавры, где было кольцо этого трамвая. Там мы ненадолго выходили, и через 10-15 мнут садились в этот же вагон, но только на лавочки другой стороны, чтобы рассматривать город уже по другую сторону движения трамвая. Совершали мы поездки на трамваях и по другим маршрутам, не менее интересных. Так я знакомился с этим удивительным городом, где посчастливилось мне прожить всю мою жизнь.
Дядя или, как все его за глаза называли Дядька, после возвращения из Челябинска в Ленинград на меховую фабрику Рот-Фронт, где он до войны работал техническим директором, работать не пошел, а, может быть, его туда и не пригласили, а стал работать в ателье по своей изначальной специальности, т.е. скорняком. Это было совсем небольшое меховое ателье с 2-3-я портными и одним скорняком. Конечно, это не было частное предприятие, но отношения между портными и заказчиками были приватные, мехов в свободной продаже не было и шубы шили, как тогда шутили, из «шкуры заказчика».
Просто прийти в ателье и заказать шубу, особенно из дорогих и дефицитных шкурок было, практически, невозможно, поэтому было важно иметь знакомства в этой сфере. В те времена связи, «блат», как тогда говорили, имели большое значение. Он был большим профессионалом в своем деле, к нему была очередь, среди которых было много известных людей, например, была прима-балерина Мариинского театра Наталья Дудинская, которой Дядька подбирал, сшивал и делал выкройки шикарной шубы с большим капюшоном из норки. Но я думаю, что Дядьке был важна не столь известность заказчика, как его платежеспособность, потому что вознаграждения за подобные работы были высокими и, конечно, не официальными. Не исключено, что у него были связи в этом мире, и он имел возможность приобрести не очень дорогие шкурки по государственной стоимости, например, беличьи. Вот из них-то он, как тогда говорили, «построил» шубку для моей мамы. Выглядела мама в ней шикарно. Сохранилась её фотография в этой шубе рядом с домом на проспекте Динамо, которую я сделал в 1956 году, аппаратом «Любитель», подаренным мне Дядькой.
Зарабатывал он хорошо, но, как мне известно, не копил, а тратил их на семью, хорошие продукты, как правило с рынка, на подарки родственникам, на летний отдых и на самого себя. Он любил комфорт и уединенность, всегда стремился ни от кого не зависеть. Работал он много, по 8-9 часов, конечно уставал и, возвращаясь домой с работы, часто брал такси. Вот, однажды, это было осень 1973 года, когда он ехал такси домой, в их «Волгу» на перекрестке на полной скорости въехал грузовик с пьяным шофером за рулем. Удар пришелся в дверь водителя такси, но он был такой силы, что дверь с пассажирской стороны распахнулась, и дядька, вылетев из машины, ударился виском о поребрик и скончался еще до приезда скорой помощи. Ремней безопасности в то время в машинах не существовало. Дядька был в то время еще очень крепким человеком, ничем серьёзным не болел и мог бы, без сомнения, прожить долгую жизнь, но у кого-то там наверху, наверное, были другие планы, так же, как и на почти всех моих родственников.
За пять лет до этого, в марте 1968 года умерла тётя Вера, ей было 72 года, по нынешним меркам немного, но онкологию в те времена лечить еще совсем не умели. Умирала она тяжело, в больницу меня она не допустила, не хотела огорчать. Маме, которая была около нее все последние дни, она сказал как-то: «Нонушка, вот увидишь, не пройдет и двух месяцев как меня не станет, и появится другая».
Именно так и случилось. Никто, а тем более я, не знали, что у Дяди уже давно была близкая женщина, парикмахерша, к которой он ходил бриться много лет. Никто из нас об этом не догадывался, Дядька был для нас всегда безупречным, а тетя догадывалась или чувствовала. Интуиция — это загадочное качество человека, особенно у женщин. Она догадывалась, но ни коим образом не выказывала это, молчала и также терпеливо ожидала своего Булечку, так ласково она называла его, по вечерам, облокотившись на широкий подоконник окна, ожидая, когда подъедет такси и из машины выйдет он с коробкой торта в руках, а она поспешит на кухню разогревать ужин, ведь она тоже была безупречной.
38. Мама, другая жизнь
Летом 1943 года после успехов наших войск в Сталинграде и на Курской дуге линия фронта начала перемещаться на запад, и фронтовые мастерские и полевые аэродромы тоже стали передвигаться вслед за боевыми действиями.
«Во второй половине 1943 года после частичного прорыва блокады часть авиамастерских вернулась в Ленинград, но я с мужем вернулась в город в эшелоне с воинской частью и оборудованием только в первых числах февраля 1944 года, сразу же после полного снятия блокады, уже с годовалым сыном. Картина города была ужасная, многие здания разрушены, но с каждым днем он менялся. Главное, что блокада была снята. Жили мы в тяжелых условиях в большой коммунальной квартире на 7-ом мансардном этаже дома на 7-й линии Васильевского острова. (Это дом с исторической аптекой-музеем «Пель и Сыновья»).
Небольшое окно-фонарь выходило прямо на крышу в сторону двора-колодца, на которую можно было при желании выйти. Желание у меня было, но меня, конечно, туда не пускали. Зимой окно заваливало снегом и днем в комнате было полутемно, а летом у окна собирались кошки, которые после блокады быстро народились, смотрели на меня, а я на них). «Водопровод заработал только через год, готовили на керосинках, отопление было печное, дрова и воду надо было поднимать наверх на себе, лифт заработал только в 1950 году». (Думаю, что условия жизни в этой квартире были даже тяжелее, чем в пестовской избе).
Несмотря на всю бытовую неустроенность, карточки и еще незажившие мамины душевные раны после потери родителей, настроение у моих родителей было приподнятое. Главное, что кончилась война, маме не было еще тридцати, папе сорока лет и казалось, что впереди еще целая и счастливая жизнь. Начиная с 1946 года, мы несколько раз ездили летом в Одессу к папиным родителям, которые после освобождения Одессы вернулись домой.
Во двор своего дома на Екатерининской улице мама пришла только один или два раза. С кем она встречалась, о чем говорила с жильцами дома не знаю, мама ни разу об этом мне не рассказывала. Знаю только, что ей вернули несколько вещей и несколько фотографий из её квартиры. Теперь эти вещи у нас. На стене висят два кашпо, которые видны на маминых старых фотографиях их квартиры, а в шкафу хранится плюшевая, дивной красоты старинная скатерть. Несколько раз мы все вместе отдыхали в военном санатории недалеко от Одессы, рядом с рыбачьим поселком, на границе лимана и самого моря. Рыбаки при нас вытягивали из моря невод, папа покупал еще живую рыбу и нам её жарили на кухне в санатории. Место было удивительное, домики, где мы жили, стояли на высоком берегу прямо над морем, ночью был слышен шум прибоя, а днем крики чаек.
Отпуск кончался, и опять надо было возвращаться в комнату с окном, выходящим на крышу. Однажды зимой мама слишком рано закрыла печную задвижку, и мы чуть не угорели, сейчас уже и не помню, кто догадался распахнуть настежь окно и проветрить комнату. Надо было что-то делать.
Весной 1951 года, в результате обмена с доплатой мы переехали в большую и светлую 30-ти метровую комнату, с двумя окнами на втором этаже, выходящими на Басков переулок. Помимо нашей в квартире было еще 4 комнаты, но зато в кухне была газовая плита, раковина с газовым нагревателем воды и даже небольшой закуток с ванной, правда с колонкой, которую надо было топить дровами, как и печку-голландку в комнате, но это не пугало, т.к. подвал с дровами был недалеко. Паровое отопление провели в дом, если не ошибаюсь, только в 1955 году, а до этого, зимой каждый день топили печку, в которой, когда дрова прогорали, мы с мамой по вечерам любили печь картошку в углях, мама называла её почему-то картошка «по-капцански». Маме все в новой квартире нравилось, главное, не надо было карабкаться на 7-й этаж, была ванная и до Невского — рукой подать.
С переездом на Басков переулок изменился не только быт. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что тогда закончился этап жизни, который принято называть «послевоенные годы». Для кого-то он закончился раньше, для кого-то позже, но для мамы, да и для меня тоже, он стал уходить в прошлое в начале 50-х годов. «Война» стала постепенно исчезать из окружающей действительности. Отменили карточки, с улиц исчезли пленные немцы, разобрали руины разбомбленных домов, устроив на их месте скверы или дворы, вернули в Петергоф «Самсона», дома стали говорить о будущей жизни больше, чем о прошлой. У мамы появились совершенно новые заботы: я пошел в школу, она устроилась на работу, надо было наконец-то начинать строить свой «дом», хотя он представлял из себя одну комнату в коммунальной квартире. Ей исполнился только 31 год, впереди была еще целая жизнь, уместить её в одной главе невозможно и, самое главное, это уже совсем не «одесские истории».
«Одесса» ушла, растворилась, превратилась в не более, чем в факт в её биографии и ностальгические воспоминания. Ленинград, в котором она после войны прожила в 2,5 раза больше лет чем в Одессе, окончательно превратил её в ленинградку с теми, почти мифическими и стремительно исчезающими в настоящее время особыми чертами характера, о которых я упоминал, рассказывая про тётю Веру. Но жизнь её, как и жизнь самого Петрограда — Ленинграда — Петербурга, была полна крутых и неожиданных поворотов, испытаний, редких счастливых моментов и событий, но больше всего потерь, потерь и потерь. Впору писать записки под названием «Ленинградские истории без хэппи энда». Они могли бы включить в себя и еще одну вынужденную «эвакуацию» в её жизни, когда папа в начале 1953 года был переведен служить на Дальний восток.
Поводом для перевода послужили появившиеся в стране антисемитские настроения, вызванные сфабрикованным в конце 1952 года в СССР, так называемым, «делом врачей», по которому были арестованы около 10 крупных профессоров, обвинённых во вредительстве, большинство из которых были евреями. Эти настроения стали проявляться не только в публикациях центральных газет, но и на улицах. После одного подобного безобразного уличного инцидента с участием моего папы в январе 1953 года его вызвал командир части, под началом которого он служил во время войны, и сказал, что принято решение перевести его служить на Дальний Восток начальником цеха одного из авиаремонтных заводов. И прибавил: «Давай-ка, Исаак от греха подальше».
Никто ведь не знал тогда, когда и чем может вся эта кампания закончится. А закончилась она неожиданно быстро, почти сразу же со смертью Сталина 5 марта 1953 года. Буквально через две недели после его похорон, дело врачей было закрыто, оставшихся в живых профессоров выпустили на свободу и всех полностью реабилитировали. Но мама собирала вещи и готовилась опять к переезду, т.к. для папы ничего не изменилось, приказ о переводе был уже подписан, и никто не собирался его отменять. В мае 1953 года мы уехали в маленький военный поселок, расположенный в Приморской тайге, недалеко от Владивостока. Через долгих два года, в 1955 году папа по состоянию здоровья был демобилизован, вернулся в Ленинград.
Началась совершенно новая жизнь, о которой я тоже обязательно напишу когда-нибудь, но это будут уже совершенно другие истории. «Одесские истории» закончились, как я и написал в заглавии к этим запискам, без «хэппи энда», впрочем, как заканчиваются все истории, связанные с человеческими жизнями. Но вы не расстраивайтесь и не огорчайтесь — главное, чтобы сама жизнь была счастливая. Как это не странно, но такое противоречивое сочетание вполне достижимо. Я счастлив, что был рядом с мамой всю её жизнь, видел, как она радовалась каким-то моим скромным успехам, а еще больше успехам Миши, которого любила безгранично. Я был рад, что у неё установились теплые и уважительные отношения с Викой. Мне было приятно наблюдать, с каким удовольствием и восторгом она ездила со мной и Мишей на рыбалку, и как интересно прошло у нас с ней путешествие по Прибалтике, когда мы на машине ездили к Мише на принятие присяги.
Я держал её руку до последнего мгновения перед её уходом.
В январе 1997 года, ровно за три месяца до своей смерти она написало мне письмо:
Дорогой Володичка!
Поздравляю с Днем рождения! Самое главное: будь здоров, берегите отношения, радуйтесь мелочам жизни: повесили зеркало -хорошо, вкрутили плафон — чудесно. стирает машинка — совсем великолепно.
К сожалению, понимаешь все не сразу…Пусть у Мишеньки сложится все хорошо, чтобы была малявочка. А то, что есть дача — это чудо из чудес. Папа бы гордился тобой. У него не хватало пороха.
Берегите друг друга, ничего ценнее нет. Целую, мама.
Может я написала что-то не так, но прочесть — не могу. И что-то исправить — не получается.
26.01.1997 г.
Да, исправить было уже ничего невозможно, мы и она это уже понимали и надеялись только на чудо. Но чудо не произошло.
Через год сгорела дача, которая ей так нравилась, а через 18 лет погиб Миша. Неужели во всей этой дьявольской хронологии тоже есть след божественного провидения?
39. Заключение
Дорогие Аня и Матвей, надеюсь, вы дочитали эту «книжку» до конца и познакомились с вашим родственниками, совсем не такими уж дальними, как может показаться. Да, уже прошло почти 100 лет как их не стало, но отделяет их от вас всего лишь три объятия: Аня обняла меня, я обнимал мою маму, а она свою, т.е. вашу пра-прабабушку. Они жили в очень непростые времена, были очевидцами и участниками бурных событий, их жизни сложились по-разному, у четверых из них она закончилась трагически.
Если бы мой дед не совершил роковую ошибку и согласился бы сесть на тот пароход вместе с остальным членами семьи, то они вернулись бы в Одессу из эвакуации живыми и прожили бы длинную и счастливую жизнь. Они все четверо успели бы погулять на нашей с Викой свадьбе, моя бабушка дожила бы до рождения внука, а Маргарита успела бы познакомиться с Аней и Матвеем сама и, возможно, познакомить их со своими детьми и внуками. К моменту окончанию мною школы, ей было бы всего лишь 29 лет и только 39 в год в день рождения Миши и всего-то 77 лет в день его свадьбы. Манюшка, наверное, продолжила бы свою бурную личную и общественную жизнь, и доросла бы до директора багетной фабрики. Могло ли так быть? Слишком много «бы». На самом деле никого из продолжателей фамилий Нейштадт, Рутенштейн и Эйдельберг на этом свете не осталось. Мир и всевышний не смогли уберечь их.
В самом начале этих записок я проводил параллель между жизнью трех сестер в провинциальном городе Борисоглебске, где прошла их юность, с тремя чеховскими сестрами, находя много общего в их чувствах, переживаниях, мечтах и планах. В пьесе за окнами дома, в котором живут сестры Прозоровы, видно еще только зарево пожара, а сестры Нейштадт столкнулись с ним уже непосредственно, и двое из них погибли в его огне. Антон Павлович только обозначил тревогу в душах своих героинь и в обществе, окружавшем их, но дальнейшая жизнь и судьба трех сестер нам осталась неизвестной. Кто и как из них встретил 17-й год, гражданскую войну, власть большевиков, можно только догадываться, также, как и об отношении самого Чехова к этим событиям и переменам, останься он жив. Возможно, он, как и Александр Иванович Куприн, разделявший привлекательные лозунги и цели марксизма, потянулся бы на «огонек», но потом, столкнувшись с жестокими реалиями нового общества, ужаснулся бы и покинул Россию, чтобы вернуться в неё умирать в конце 30-х годов.
А о возможной судьбе сестер, по крайне мере двух из них, мы все-таки смогли узнать, прочитав роман Алексея Толстого «Хождение по мукам». Надо сказать, что «хождение по мукам» в это переломное и жестокое время пришлось испытать не только «сёстрам» из интеллигентных семей, но и всему российскому и советскому народу независимо от национальности и социального происхождения, всем досталось, в том числе и героям моих записок.
Дорогие Анечка и Матвей, в ваших жилах течет малая толика крови ваших далеких родственниц, трех сестер Нейштадт, но также как художник, заканчивая портрет человека, оживляет его глаза маленьким последним и точным мазком кисти, также и эта маленькая их частица, надеюсь, сделает вас такими же особенными, ни на никого непохожими, хорошими и добрыми людьми, какими были они, но жить вы будете очень долго и очень счастливо. Я в этом уверен.
Июнь 2022 г.
Конец
Примечание:
Фотографии в тексте можно увеличить, для этого надо навести на фотографию курсор и щёлкнуть левой кнопкой мыши.
комментариев 4
Добавить комментарий
Для отправки комментария вы должны авторизоваться.















































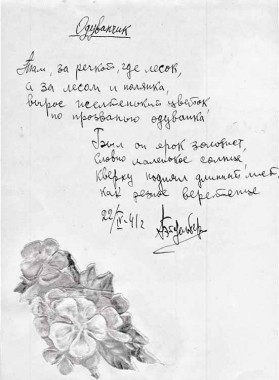






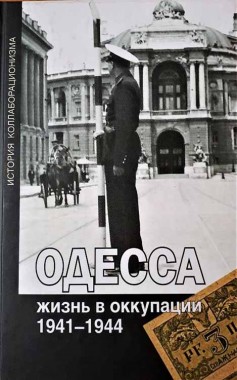












23/08/2022 13:45:56
Дорогой Владимир!
Это просто потрясающе! Поздравляю Вас с блистательным дебютом на литературно-историческом поприще. Причём проба пера эта оказалась настолько удачной, что, рассчитанная на десятилетия и даже века, на новые, пока неизвестные средства коммуникации, она уже сейчас затмила произведения всех ушедших и живых классиков мировой словесности и культуры. Ну может быть, не совсем затмила и не всех. Но написано очень трогательно. Даже можно сказать, пронзительно. Будем внимательно читать.
Особо нежный привет Виктории. Чувствуется её стиль.
Новых творческих успехов вам.
Е. Никонов.
25/08/2022 00:48:07
Уважаемый Евгений, спасибо за такую высокую оценку моего скромного опуса, но по поводу ушедших и живых классиков Вы, как говорится «тумач», просто не оставляете мне пространства для роста. Ну, а если серьёзно, то, конечно, мне важны отзывы таких уважаемых мною людей, как Вы.
Моим друзьям и ближнему окружению, в основном книга показалась тоже небезынтересной, но не все однозначно приняли некоторые мои оценки и комментарии исторических событий, которые я по ходу книги затрагиваю. Интересно было бы узнать и Ваше мнение.
С уважением и благодарностью, ВЧ.
2/12/2022 01:46:53
Искренне благодарю администрацию сайта за помощь в размещении в тексте публикации «Одесские рассказы без хэппи энда» иллюстраций, которые ранее в ней отсутствовали
10/01/2023 05:15:42
Уважаетый Владимир Исаакович!
Зацепился сначала за фамилию (Червинский и Масс).
А потом зачитался. Прекрасное обращение к внукам и не просто повествование, а анализ.
И много совпадений с моей семьёй.
И моя бабушка родилась в 1893 году и на берегах той же реки Свислочь, только не в Минске, а в местечке Свислочь, где река Свислочь впадает в Березину.
И у нас было три сестры. Только это бабушкины дочки. И младшая, моя мама, родилась как мама автора, в 1920 году. А одну из сестёр тоже звали Маша, Маня, как мы её звали. И хотя она старше мамы, она была мне как сестра, и был с ней на ты.
И моя мама перебралась в Ленинград вслед за самой старшей сестрой. И всю блокаду была в городе. Сначала госпиталь, а потом в артиллерийской части. А меня родила в декабре 1944 г.
И последнее совпадение. Мама автора работала в Балтехфлоте. Именно там проработал всю жизнь мой отчим.
Спасибо.